Статьи


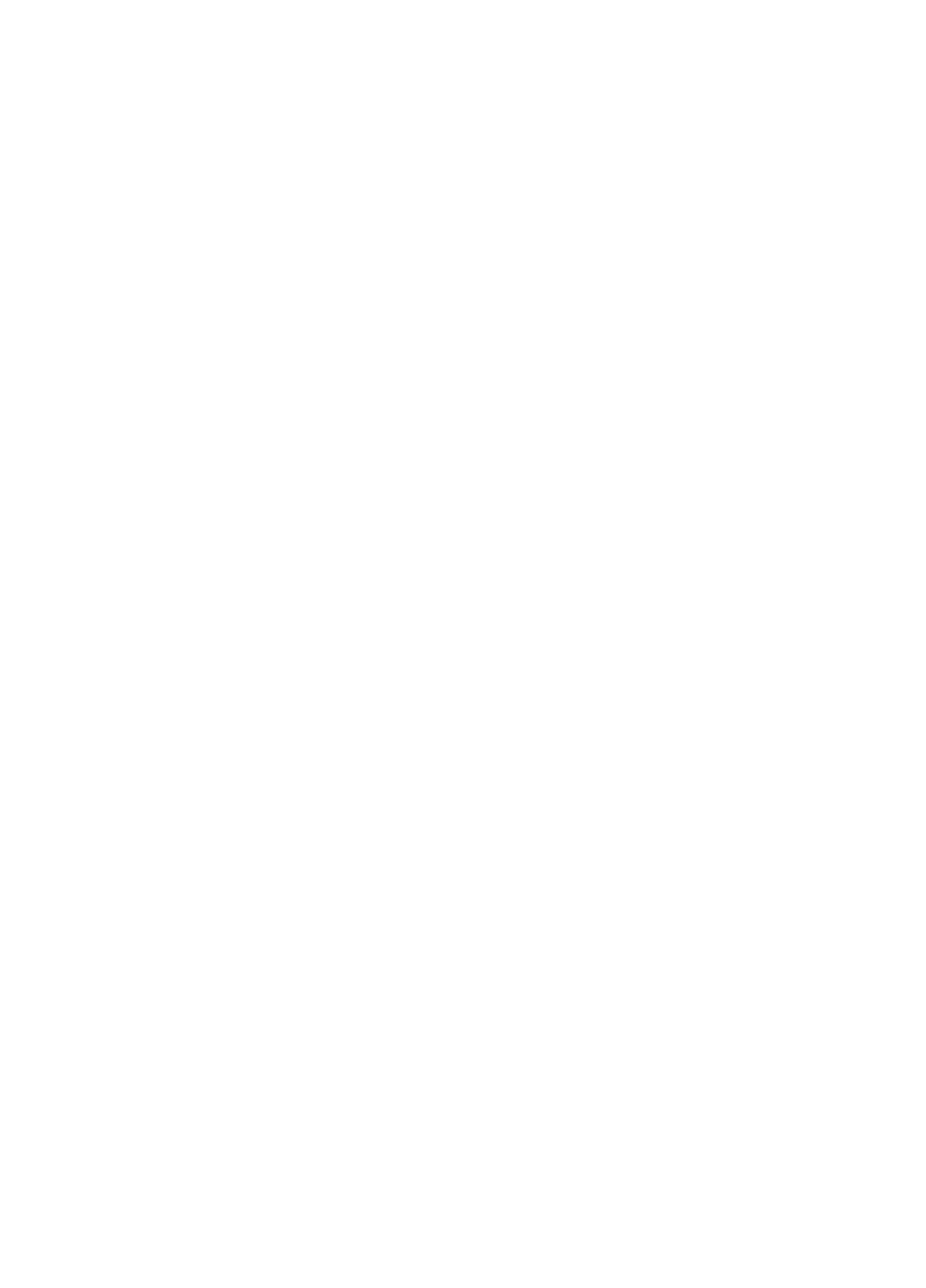
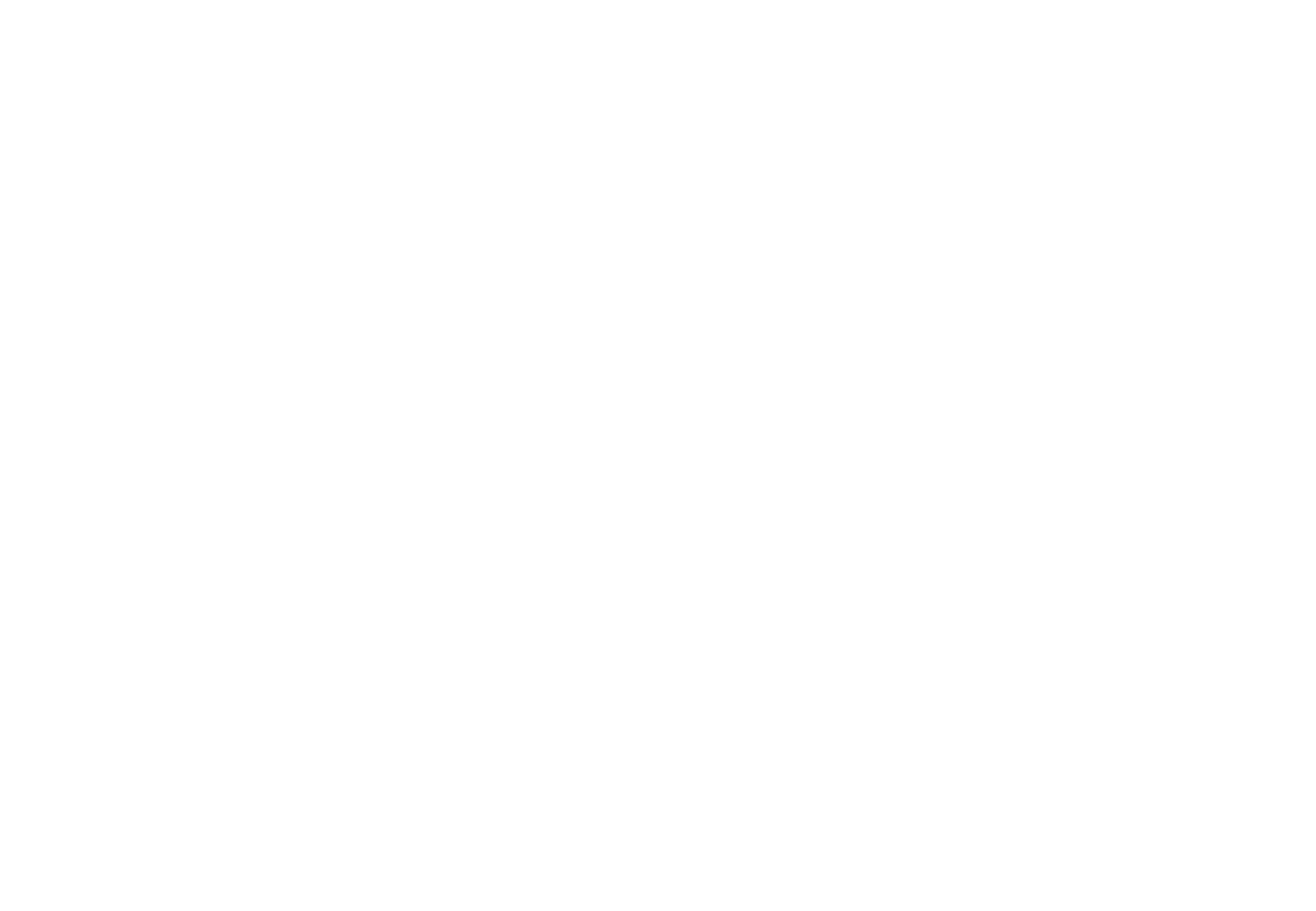
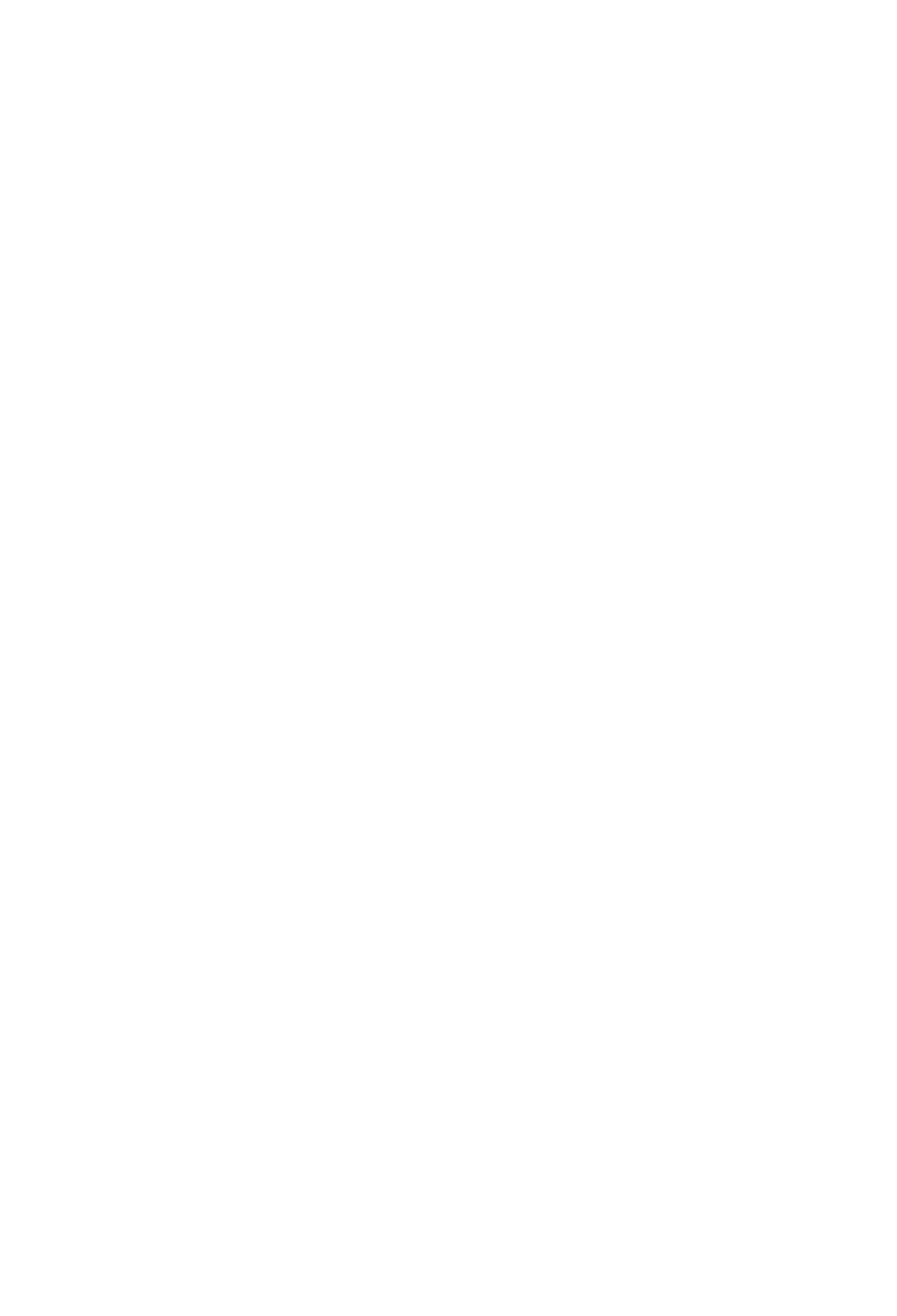





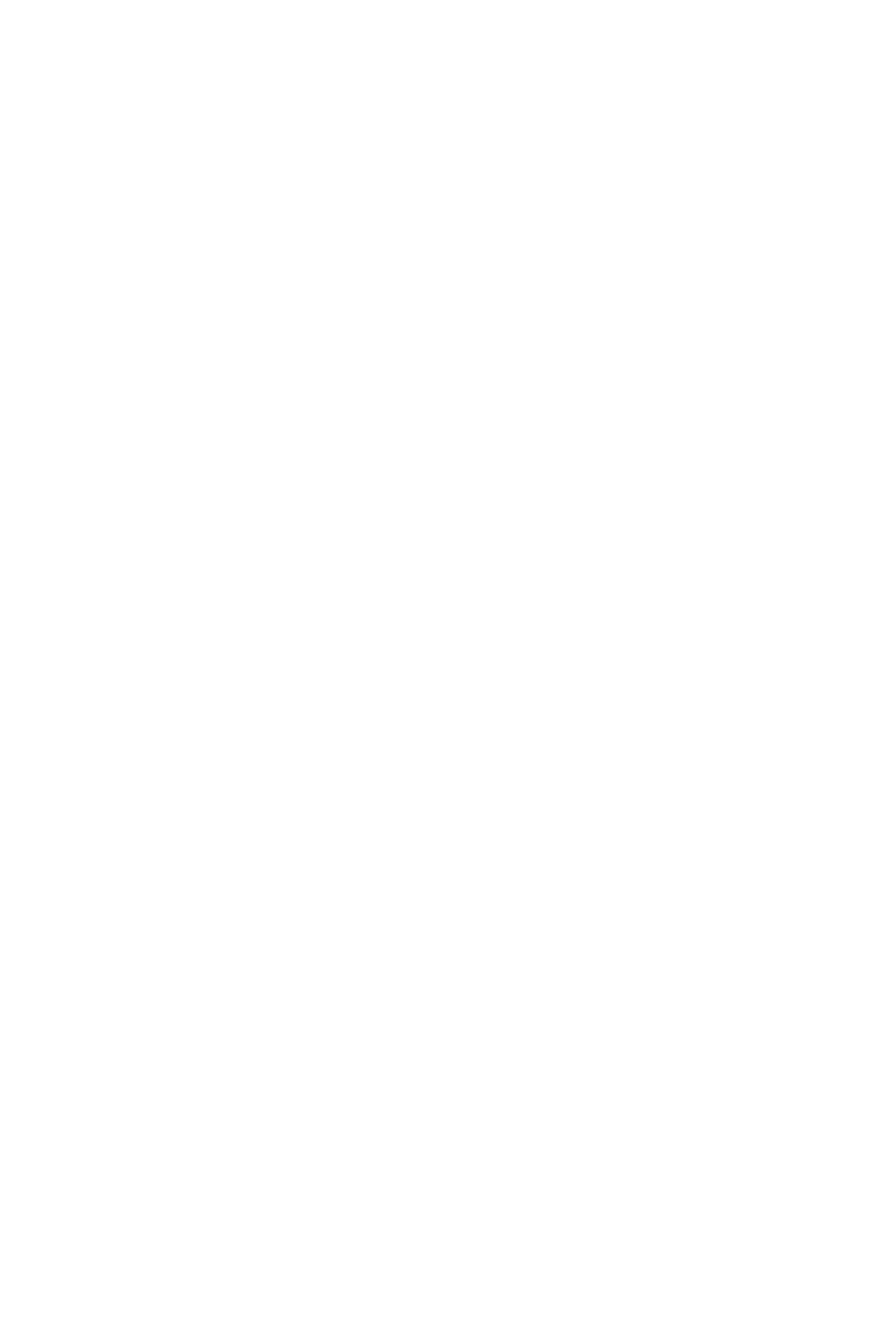

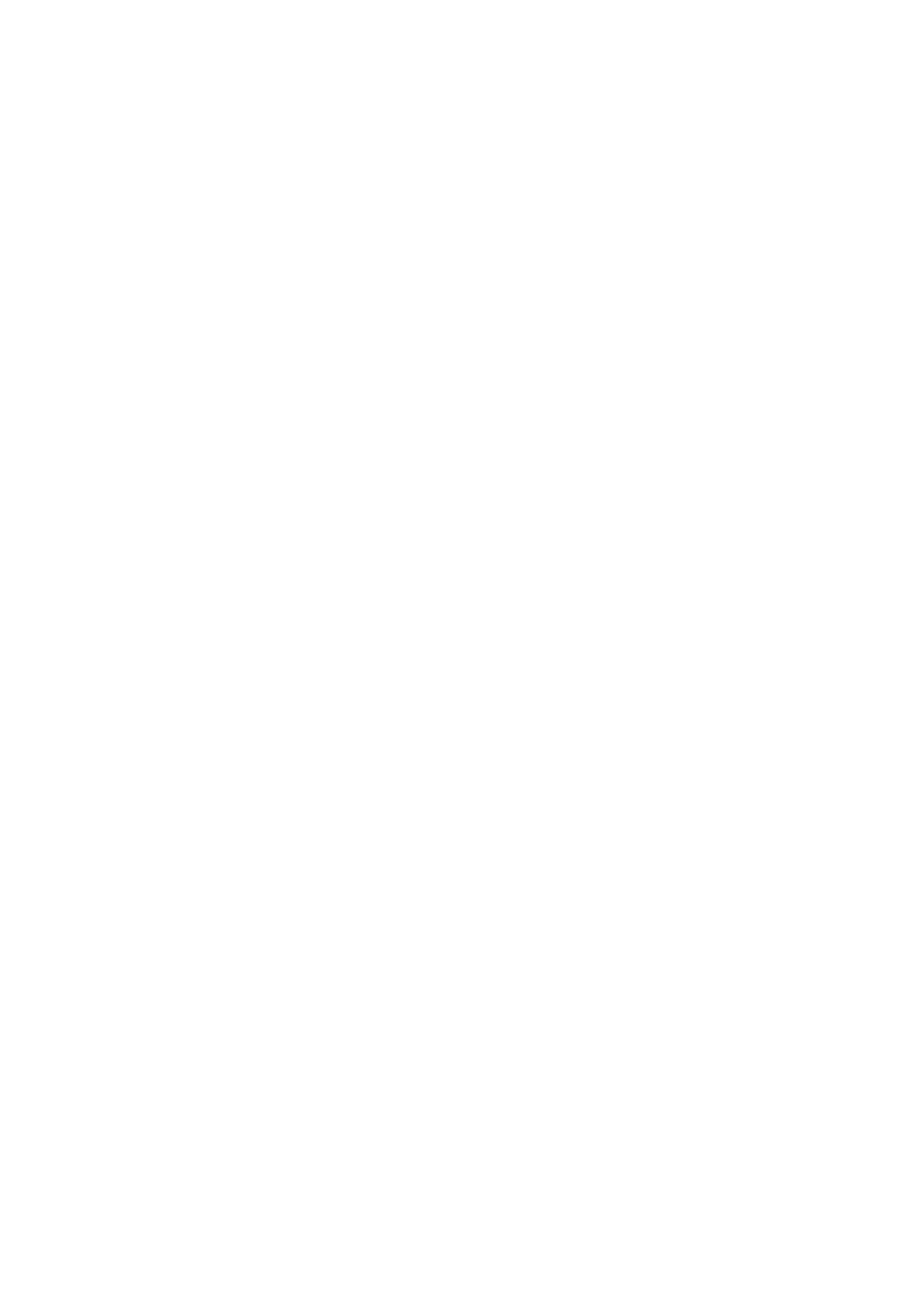



2025
память
«Я СЛИШКОМ ХОТЕЛА ЖИТЬ…»
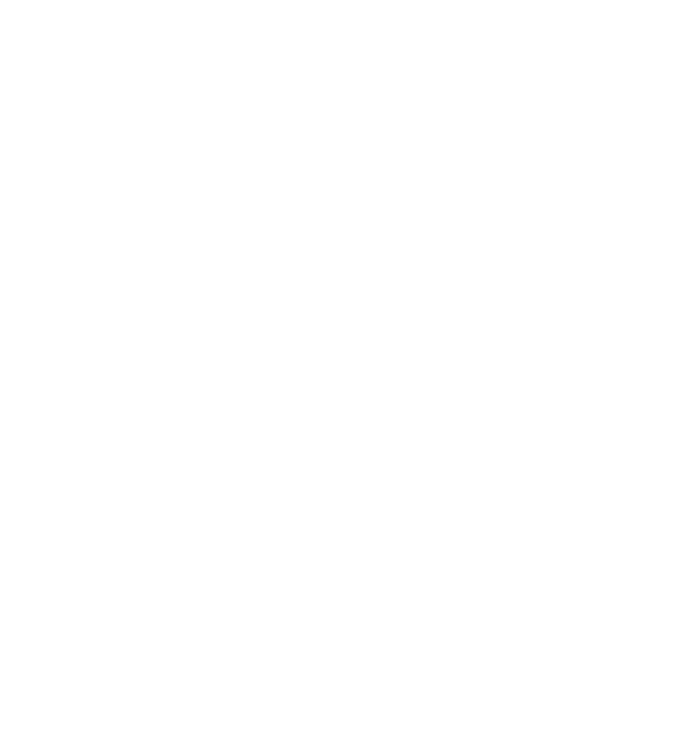
Ирина Кострова
Преставилась к Богу Ирина Васильевна Кострова. Ей было 102 года.
Великая тайна, почему Господь одному даёт короткую жизнь на земле, а другому — такую длинную. Мне кажется, Ирине Васильевне много надо было передать молодому поколению. Талантливая актриса, заслуженная артистка России, она в 101 год ещё выходила на сцену. И студенты театральных вузов не пропускали её моноспектаклей, впитывали опыт русской классической артистической школы.
Ирина Кострова была настоящим русским человеком — ответственным, отзывчивым. Такие образы встречаются в нашей классической литературе. Когда люди делились с нею своими заботами, она отвечала, даже когда болела:
— Чем я могу помочь?
До конца Ирина Васильевна оставалась красивой женщиной. Внутренняя красота проявлялась вовне. Она любила жизнь и людей.
В последнее время Ирина Кострова выступала с моноспектаклем «Исповедь сердца» по стихам, письмам Ахматовой. Зрители слушали Кострову, затаив дыхание. Она читала стихи и говорила о поэтессе как о дорогом человеке.
— Действительно, дорогом, — подтвердила Ирина Васильевна, когда я попросила её рассказать о поэте нашим читателям. — Ахматова была любимым поэтом и моим, и моего мужа заслуженного артиста России Анатолия Борисовича Свенцицкого.
Великая тайна, почему Господь одному даёт короткую жизнь на земле, а другому — такую длинную. Мне кажется, Ирине Васильевне много надо было передать молодому поколению. Талантливая актриса, заслуженная артистка России, она в 101 год ещё выходила на сцену. И студенты театральных вузов не пропускали её моноспектаклей, впитывали опыт русской классической артистической школы.
Ирина Кострова была настоящим русским человеком — ответственным, отзывчивым. Такие образы встречаются в нашей классической литературе. Когда люди делились с нею своими заботами, она отвечала, даже когда болела:
— Чем я могу помочь?
До конца Ирина Васильевна оставалась красивой женщиной. Внутренняя красота проявлялась вовне. Она любила жизнь и людей.
В последнее время Ирина Кострова выступала с моноспектаклем «Исповедь сердца» по стихам, письмам Ахматовой. Зрители слушали Кострову, затаив дыхание. Она читала стихи и говорила о поэтессе как о дорогом человеке.
— Действительно, дорогом, — подтвердила Ирина Васильевна, когда я попросила её рассказать о поэте нашим читателям. — Ахматова была любимым поэтом и моим, и моего мужа заслуженного артиста России Анатолия Борисовича Свенцицкого.
— Это он написал сценарий и поставил спектакль?
— Да, Анатолий Борисович несколько раз встречался с Ахматовой. И как только её разрешили, сразу стал работать над этой программой.
— Теперь читателям, пожалуй, надо объяснять, что это значит — разрешили. Но давайте скажем об этом позже. А пока – об Анне Андреевне.
— Родилась она на юге. Вскоре семья переехала в Петербург. Там Ахматова (её фамилия была Горенко) росла и училась. Но лето всегда проводила у моря.
Она писала: «А я была дерзкой, злой и весёлой…» Правда, когда появились эти стихи, Анна Андреевна уже знала, «что от счастья и славы безнадёжно дряхлеют сердца».
— Даже от счастья? Наверное, нам посылаются испытания, чтобы мы не дряхлели.
— Мне очень хочется передать зрителям внутренний мир Ахматовой, её отношение к тому, что происходило в стране и с нею. Поэтому моноспектакль называется «Исповедь сердца».
— Похоже, это исповедь и вашего сердца, Ирина Васильевна?
— Конечно, ведь мы всё это пережили! А она рассказала в стихах. Трагическим был XX век. Менялась эпоха — менялась Ахматова.
Жизнь её была непростой, изломанной. Анна Андреевна вышла замуж за поэта Николая Гумилёва, у них родился сын. Но с мужем они расстались. Потом она дважды выходила замуж, но больше всего любила Гумилёва.
— Как же тогда её любовные истории? Их тоже немало.
— Верно. Но все поэты влюбчивы. Зато какая у Ахматовой любовная лирика!
В мою торжественную ночь
Не приходи. Тебя не знаю.
И чем могла б тебе помочь?
От счастья я не исцеляю.
Да и как ей было не влюбиться, например, в Александра Блока? Мать Блока писала подруге: «Я всё жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тонкую, глубокую и, стало быть, нежную. И есть такая поэтесса Анна Ахматова, которая протягивает к нему руки и готова любить его, а он от неё отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная, а он этого не любит. Я бы хотела написать вам одно из её стихотворений, но помню, к сожалению, только две строки:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер он, сероглазый король!
Теперь вы можете судить, какой душевный склад у этой юной несчастной девушки. А Саша опять полюбил Кармен!»
— Интересно.
— Как она любила Блока! И когда он не ответил взаимностью, конечно, ей было больно. Но Анна Андреевна всё простила. Написала:
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта Своего.
В жизни Анны Андреевны много трагичного, больного. И всё-таки она всегда оставалась светлым, оптимистичным человеком. И очень любила Родину.
— Многие теряются: что такое — Родина? Путают её с властью, государственным устройством.
— А прежде было не так. В 1914 году началась Первая мировая война. Ахматовой было 25 лет. И она в «Молитве» просила Бога:
Дай мне долгие годы недуга,
Задыханье, бессонницу, жар,
Отними и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После долгих томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Она готова отказаться от поэзии, ребёнка, смертельно заболеть, всем жертвовать — лишь бы спасти Родину.
— После революции 1917 года Анна Андреевна не захотела покинуть Россию?
— Верно. Хотя многие поэты уехали за рубеж: Цветаева, Бунин, Мережковский. Там образовалась русская диаспора. Они Ахматову звали, подготовили всё к её приезду. Но она категорически отказалась:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как обречённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник!
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаю, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Разве эти стихи не перекликаются с нашим временем?
— Стихи прекрасные. И перекликаются с жизнью каждого человека, по-моему.
— А вот ещё. Это уже 1922 год:
Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Всё голодной тоскою изглодано.
Почему же так стало светло?
Вновь дыханьями веет вишнёвыми
Небывалый под городом лес.
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь июльских прозрачных небес.
И так близко подходит чудесное
К развалившимся старым домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.
Обстановка была тяжелая — и всё-таки Анна Андреевна верит в весну и чудесное. Она светлый, оптимистичный поэт.
— А её тогда уже почти не печатали!
— В 1935 году арестовали сына Ахматовой. Анна Андреевна обратилась к Сталину. Сына освободили. Но в 1938-м — новый арест и приговор: 5 лет лагерей, а потом поселение.
В то время она начала писать поэму «Реквием»: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного всем нам оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
— А это вы сможете описать?
И я сказала:
— Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом».
— Анна Андреевна описала.
— Это был крик её души:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
А вот ещё:
Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
Дальше началась Великая Отечественная война. Ахматова не хотела эвакуироваться из Ленинграда. Её насильно увезли.
— Я об этом не знала.
— В 1942 году у неё появились такие строки:
А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достаётся всем, но разною ценой…
На этом корабле есть для меня каюта,
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.
Она прощается не с сыном, не с друзьями, не с поэзией.
— Да, прощается с Родиной.
— После войны с неё снята опала. Анну Андреевну пригласили выступить в Москве в Колонном зале. Она имела огромный успех. Это не понравилось высшему руководству страны.
Вскоре вышло страшное постановление оргбюро ЦК ВКП(б), где резко ругали Ахматову, объявили белогвардейкой. Анну Андреевну выгнали из Союза писателей, изъяли её книги из библиотек, запретили издавать новые. Лишили продовольственного пайка.
— Обрекли на смерть от голода?
— Как человек верующий она не ответила злом на всё это зло и безобразие. Но что ей дальше делать? Она стала заниматься переводами. И считается одним из лучших переводчиков в стране — наравне с Лозинским, Пастернаком, Маршаком.
— А своё она что-то писала?
— Да, но это не печатали. В 1949 году третий раз арестовали сына Анны Андреевны. Он вышел на свободу только в 1956 году, после смерти Сталина. Ахматову снова разрешили. В 1958-м вышел сборник её стихов. В 60-х поэта пригласили в Италию, Англию. В Оксфорде Ахматовой вручили диплом почётного доктора филологических наук. И хотя Анна Андреевна прекрасно знала иностранные языки, она везде выступала только на русском.
Ахматова вернулась окрылённая, у неё было много планов. Поехала подлечиться в санаторий под Москвой. И там — пятый инфаркт. Пятый! Смерть всегда неожиданна.
Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелёт.
И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога, не скажу куда…
Там средь стволов ещё светлее,
И всё похоже на аллею
У Царскосельского пруда.
— Вы правы, это светлые стихи.
— Ахматова не ныла, не грустила. Она не боялась смерти — как верующий человек.
— Всё-таки покаяние творит великие чудеса: грешным, больным людям Бог даёт вдохновение, творчество, красоту, силы.
— Живую совесть и честь. Это то, что было у Ахматовой и может присутствовать в любом человеке.
Навсегда остаются те писатели, которые нужны людям. Как Ахматова. Нет лучшего примера для нас теперь, когда идёт столько злобы, убийств. Люди уничтожают друг друга, не сочувствуют никому.
Молодёжь сегодня говорит: «Никакой любви нет, есть секс!» Но вы послушайте Ахматову — и поймёте: есть любовь. Каждый, кто читает её стихи, может примерить их на себя, подумать, как жить, Кому и в Кого верить. За Кем идти. Читая эти стихи, я и сама стала иной, не такой, какой была прежде. У Ахматовой училась преодолевать все тяжёлое, что мне выпадало.
— На свете накоплено столько богатств, а мы от них, к сожалению, легко отказываемся.
— Да, занимаемся будничной работой, расстраиваемся от маленьких зарплат, утопаем в мелочах — и отходим от главного. Но были и есть люди, которые не унывают ни от чего.
— Даже когда у них отбирают продовольственный паёк!
— Это большие люди. Как Ахматова. Встреча с её поэзией — это встреча с живой, воскресшей душой.
Встреча с Ириной Васильевной Костровой была такой же для её зрителей, для меня. Теперь наступила разлука, но она временная, наполнена воспоминаниями, благодарностью и молитвой. Упокой, Господи, рабу Твою Ирину во святом Царствии Твоем!
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
— Да, Анатолий Борисович несколько раз встречался с Ахматовой. И как только её разрешили, сразу стал работать над этой программой.
— Теперь читателям, пожалуй, надо объяснять, что это значит — разрешили. Но давайте скажем об этом позже. А пока – об Анне Андреевне.
— Родилась она на юге. Вскоре семья переехала в Петербург. Там Ахматова (её фамилия была Горенко) росла и училась. Но лето всегда проводила у моря.
Она писала: «А я была дерзкой, злой и весёлой…» Правда, когда появились эти стихи, Анна Андреевна уже знала, «что от счастья и славы безнадёжно дряхлеют сердца».
— Даже от счастья? Наверное, нам посылаются испытания, чтобы мы не дряхлели.
— Мне очень хочется передать зрителям внутренний мир Ахматовой, её отношение к тому, что происходило в стране и с нею. Поэтому моноспектакль называется «Исповедь сердца».
— Похоже, это исповедь и вашего сердца, Ирина Васильевна?
— Конечно, ведь мы всё это пережили! А она рассказала в стихах. Трагическим был XX век. Менялась эпоха — менялась Ахматова.
Жизнь её была непростой, изломанной. Анна Андреевна вышла замуж за поэта Николая Гумилёва, у них родился сын. Но с мужем они расстались. Потом она дважды выходила замуж, но больше всего любила Гумилёва.
— Как же тогда её любовные истории? Их тоже немало.
— Верно. Но все поэты влюбчивы. Зато какая у Ахматовой любовная лирика!
В мою торжественную ночь
Не приходи. Тебя не знаю.
И чем могла б тебе помочь?
От счастья я не исцеляю.
Да и как ей было не влюбиться, например, в Александра Блока? Мать Блока писала подруге: «Я всё жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тонкую, глубокую и, стало быть, нежную. И есть такая поэтесса Анна Ахматова, которая протягивает к нему руки и готова любить его, а он от неё отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная, а он этого не любит. Я бы хотела написать вам одно из её стихотворений, но помню, к сожалению, только две строки:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер он, сероглазый король!
Теперь вы можете судить, какой душевный склад у этой юной несчастной девушки. А Саша опять полюбил Кармен!»
— Интересно.
— Как она любила Блока! И когда он не ответил взаимностью, конечно, ей было больно. Но Анна Андреевна всё простила. Написала:
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта Своего.
В жизни Анны Андреевны много трагичного, больного. И всё-таки она всегда оставалась светлым, оптимистичным человеком. И очень любила Родину.
— Многие теряются: что такое — Родина? Путают её с властью, государственным устройством.
— А прежде было не так. В 1914 году началась Первая мировая война. Ахматовой было 25 лет. И она в «Молитве» просила Бога:
Дай мне долгие годы недуга,
Задыханье, бессонницу, жар,
Отними и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После долгих томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Она готова отказаться от поэзии, ребёнка, смертельно заболеть, всем жертвовать — лишь бы спасти Родину.
— После революции 1917 года Анна Андреевна не захотела покинуть Россию?
— Верно. Хотя многие поэты уехали за рубеж: Цветаева, Бунин, Мережковский. Там образовалась русская диаспора. Они Ахматову звали, подготовили всё к её приезду. Но она категорически отказалась:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как обречённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник!
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаю, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Разве эти стихи не перекликаются с нашим временем?
— Стихи прекрасные. И перекликаются с жизнью каждого человека, по-моему.
— А вот ещё. Это уже 1922 год:
Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Всё голодной тоскою изглодано.
Почему же так стало светло?
Вновь дыханьями веет вишнёвыми
Небывалый под городом лес.
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь июльских прозрачных небес.
И так близко подходит чудесное
К развалившимся старым домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.
Обстановка была тяжелая — и всё-таки Анна Андреевна верит в весну и чудесное. Она светлый, оптимистичный поэт.
— А её тогда уже почти не печатали!
— В 1935 году арестовали сына Ахматовой. Анна Андреевна обратилась к Сталину. Сына освободили. Но в 1938-м — новый арест и приговор: 5 лет лагерей, а потом поселение.
В то время она начала писать поэму «Реквием»: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного всем нам оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
— А это вы сможете описать?
И я сказала:
— Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было её лицом».
— Анна Андреевна описала.
— Это был крик её души:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
А вот ещё:
Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
Дальше началась Великая Отечественная война. Ахматова не хотела эвакуироваться из Ленинграда. Её насильно увезли.
— Я об этом не знала.
— В 1942 году у неё появились такие строки:
А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достаётся всем, но разною ценой…
На этом корабле есть для меня каюта,
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.
Она прощается не с сыном, не с друзьями, не с поэзией.
— Да, прощается с Родиной.
— После войны с неё снята опала. Анну Андреевну пригласили выступить в Москве в Колонном зале. Она имела огромный успех. Это не понравилось высшему руководству страны.
Вскоре вышло страшное постановление оргбюро ЦК ВКП(б), где резко ругали Ахматову, объявили белогвардейкой. Анну Андреевну выгнали из Союза писателей, изъяли её книги из библиотек, запретили издавать новые. Лишили продовольственного пайка.
— Обрекли на смерть от голода?
— Как человек верующий она не ответила злом на всё это зло и безобразие. Но что ей дальше делать? Она стала заниматься переводами. И считается одним из лучших переводчиков в стране — наравне с Лозинским, Пастернаком, Маршаком.
— А своё она что-то писала?
— Да, но это не печатали. В 1949 году третий раз арестовали сына Анны Андреевны. Он вышел на свободу только в 1956 году, после смерти Сталина. Ахматову снова разрешили. В 1958-м вышел сборник её стихов. В 60-х поэта пригласили в Италию, Англию. В Оксфорде Ахматовой вручили диплом почётного доктора филологических наук. И хотя Анна Андреевна прекрасно знала иностранные языки, она везде выступала только на русском.
Ахматова вернулась окрылённая, у неё было много планов. Поехала подлечиться в санаторий под Москвой. И там — пятый инфаркт. Пятый! Смерть всегда неожиданна.
Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелёт.
И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога, не скажу куда…
Там средь стволов ещё светлее,
И всё похоже на аллею
У Царскосельского пруда.
— Вы правы, это светлые стихи.
— Ахматова не ныла, не грустила. Она не боялась смерти — как верующий человек.
— Всё-таки покаяние творит великие чудеса: грешным, больным людям Бог даёт вдохновение, творчество, красоту, силы.
— Живую совесть и честь. Это то, что было у Ахматовой и может присутствовать в любом человеке.
Навсегда остаются те писатели, которые нужны людям. Как Ахматова. Нет лучшего примера для нас теперь, когда идёт столько злобы, убийств. Люди уничтожают друг друга, не сочувствуют никому.
Молодёжь сегодня говорит: «Никакой любви нет, есть секс!» Но вы послушайте Ахматову — и поймёте: есть любовь. Каждый, кто читает её стихи, может примерить их на себя, подумать, как жить, Кому и в Кого верить. За Кем идти. Читая эти стихи, я и сама стала иной, не такой, какой была прежде. У Ахматовой училась преодолевать все тяжёлое, что мне выпадало.
— На свете накоплено столько богатств, а мы от них, к сожалению, легко отказываемся.
— Да, занимаемся будничной работой, расстраиваемся от маленьких зарплат, утопаем в мелочах — и отходим от главного. Но были и есть люди, которые не унывают ни от чего.
— Даже когда у них отбирают продовольственный паёк!
— Это большие люди. Как Ахматова. Встреча с её поэзией — это встреча с живой, воскресшей душой.
Встреча с Ириной Васильевной Костровой была такой же для её зрителей, для меня. Теперь наступила разлука, но она временная, наполнена воспоминаниями, благодарностью и молитвой. Упокой, Господи, рабу Твою Ирину во святом Царствии Твоем!
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
2024
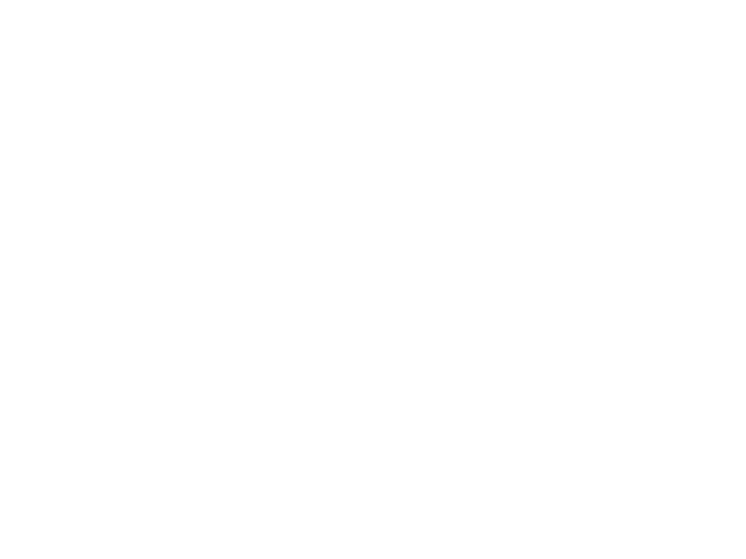
Ирина Кострова, «МК», 8 октября 2024 года
В пресс-центр «МК» приехала актриса и ветеран войны: Ирине Костровой 4 апреля исполнился 101 год!
Заслуженной артистке РФ, ветерану войны и труда, кавалеру орденов и медалей Ирине Костровой 4 апреля исполнился 101 год. Поистине королевский возраст не мешает ей продолжать выступать, сотрудничая с Москонцертом, общаться с молодёжью и давать яркие интервью. Ирина Васильевна стала героиней «Театральной среды с Мариной Райкиной».
Отвечая на вопрос, что вообще такое для человека сто лет, Ирина Кострова сказала:
«Откуда я знаю? Я просто живу и живу. И никогда не думаю, сколько мне лет. Мне всё интересно, я очень люблю молодёжь, стараюсь дружить, идти в ногу с молодыми.
Как-то быстро время пролетело, я всё время что-то делаю и всю жизнь недосыпаю, сплю три-четыре часа в сутки».
Заслуженной артистке РФ, ветерану войны и труда, кавалеру орденов и медалей Ирине Костровой 4 апреля исполнился 101 год. Поистине королевский возраст не мешает ей продолжать выступать, сотрудничая с Москонцертом, общаться с молодёжью и давать яркие интервью. Ирина Васильевна стала героиней «Театральной среды с Мариной Райкиной».
Отвечая на вопрос, что вообще такое для человека сто лет, Ирина Кострова сказала:
«Откуда я знаю? Я просто живу и живу. И никогда не думаю, сколько мне лет. Мне всё интересно, я очень люблю молодёжь, стараюсь дружить, идти в ногу с молодыми.
Как-то быстро время пролетело, я всё время что-то делаю и всю жизнь недосыпаю, сплю три-четыре часа в сутки».
— У вас в роду были долгожители?
— Долгожителей нет никого.
— Вы поступали в театральное училище до Великой Отечественной?
— Я окончила школу в июне 1941 года. У нас был прекрасный выпускной вечер, мы гуляли на Красной площади, и один мальчик пошёл меня провожать. А на следующий день отец меня разбудил и сказал: «Как тебе не стыдно спать? Война». Все ринулись записываться на фронт, но меня не взяли. Из наших мальчиков, кого взяли, вернулись только трое.
Я рыла окопы под Москвой, работала на заводе, мы дежурили на крыше во время бомбёжек. Видела, как бомба попала в Вахтанговский театр, как погиб актер Василий Куза, как разбомбили дом Андрея Дмитриевича Сахарова, с которым дружил мой муж. Заработала гангрену, одну ногу хотели отрезать, но спасли. С родителями в эвакуацию сначала я не поехала. Осталась, чтобы поступить в театральное училище, но поступать было некуда, потому что они тоже эвакуировались...
— Немцы подходили к столице, но вы всё равно рвались учиться на актрису!
— У меня такая натура. Я девочка арбатская, родилась в переулке у театра. Тогда Москва была совсем другой — по Арбату ходили трамваи, с которых свисали люди. Все чудеса я застала: появление цеппелинов, метро, — это было при нашей жизни!
Ненадолго уехав в Ульяновск, Ирина Кострова узнала, что одно из театральных учебных заведений в Москве всё-таки открылось, и тогда вернулась в фактически закрытый город в товарном поезде, спрятавшись в танке. Побежала поступать в простом ситцевом платьице...
Запомним эту мудрость долгой, полной, прекрасной жизни.
4 апреля заслуженной артистке России Ирине Костровой исполнился 101 год!
Иван ВОЛОСЮК
— Долгожителей нет никого.
— Вы поступали в театральное училище до Великой Отечественной?
— Я окончила школу в июне 1941 года. У нас был прекрасный выпускной вечер, мы гуляли на Красной площади, и один мальчик пошёл меня провожать. А на следующий день отец меня разбудил и сказал: «Как тебе не стыдно спать? Война». Все ринулись записываться на фронт, но меня не взяли. Из наших мальчиков, кого взяли, вернулись только трое.
Я рыла окопы под Москвой, работала на заводе, мы дежурили на крыше во время бомбёжек. Видела, как бомба попала в Вахтанговский театр, как погиб актер Василий Куза, как разбомбили дом Андрея Дмитриевича Сахарова, с которым дружил мой муж. Заработала гангрену, одну ногу хотели отрезать, но спасли. С родителями в эвакуацию сначала я не поехала. Осталась, чтобы поступить в театральное училище, но поступать было некуда, потому что они тоже эвакуировались...
— Немцы подходили к столице, но вы всё равно рвались учиться на актрису!
— У меня такая натура. Я девочка арбатская, родилась в переулке у театра. Тогда Москва была совсем другой — по Арбату ходили трамваи, с которых свисали люди. Все чудеса я застала: появление цеппелинов, метро, — это было при нашей жизни!
Ненадолго уехав в Ульяновск, Ирина Кострова узнала, что одно из театральных учебных заведений в Москве всё-таки открылось, и тогда вернулась в фактически закрытый город в товарном поезде, спрятавшись в танке. Побежала поступать в простом ситцевом платьице...
Запомним эту мудрость долгой, полной, прекрасной жизни.
4 апреля заслуженной артистке России Ирине Костровой исполнился 101 год!
Иван ВОЛОСЮК
«Семейная православная газета», апрель, 13, 2024, №4
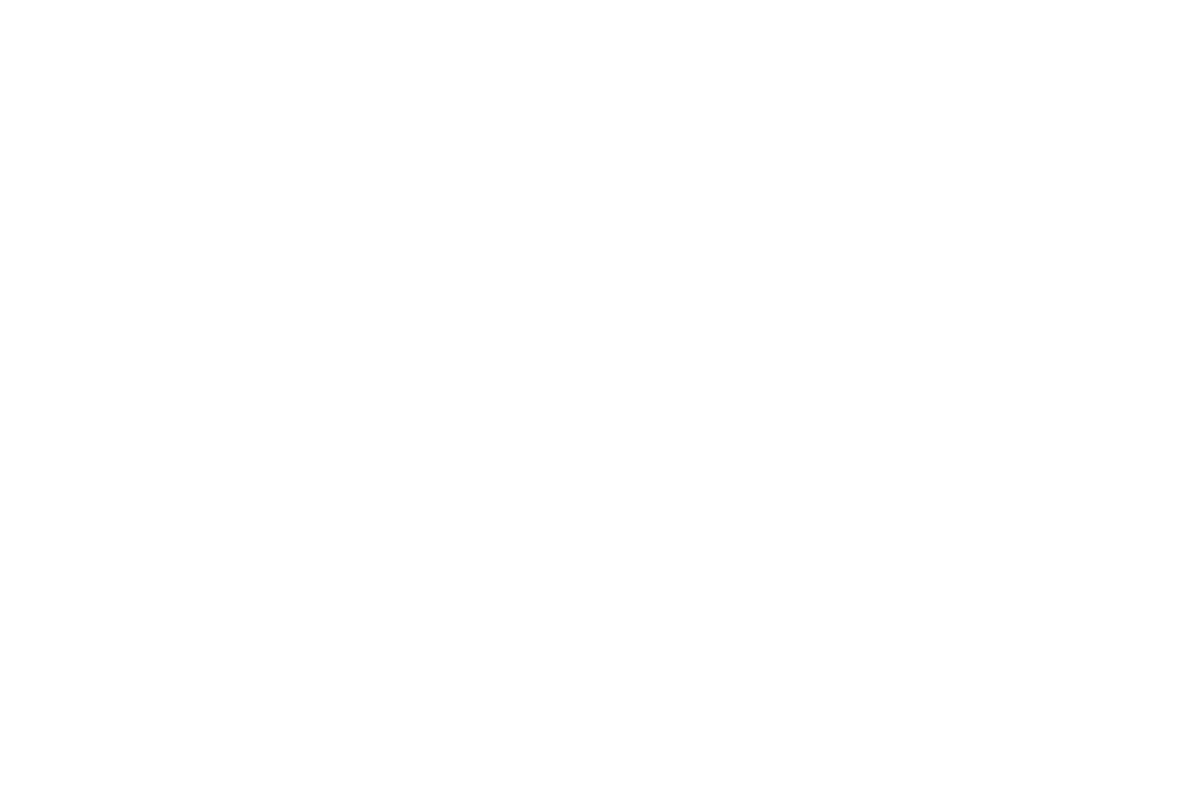
Первый после столетия весенний концерт Ирины Костровой «Моя 101-я весна»! Москонцерт Холл, 24 апреля 2024 года
Заслуженная артистка России Ирина Васильевна Костров встретила свою 101-ю весну. Для актёра главный праздник — общение со зрителями. С ними он делит радости, беды, открытия. День рождения Ирина Васильевна отметит 24 апреля в Москонцерт Холле — большим праздничным вечером. Она готовится к нему, составляет программу, повторяет стихи.
Творческая, богатая на интересные встречи жизнь была у Ирины Васильевны. 17 лет назад преставился к Богу её супруг Анатолий Борисович Свенцицкий. Тоже заслуженный артист России, режиссёр, писатель и партнёр по сцене. 62 года прожили они вместе.
Как-то Анатолий Борисович тяжело заболел. Врачи говорили, что надежды на выздоровление нет. Но ночью в больнице ему явился святой патриарх Тихон и сказал:
— Ты не умрёшь. Ты не сделал главное дело твоей жизни.
И потом десять лет Анатолий Борисович занимался тем, что возвращал Церкви храм своего детства — Успения Божией Матери на Могильцах.
Творческая, богатая на интересные встречи жизнь была у Ирины Васильевны. 17 лет назад преставился к Богу её супруг Анатолий Борисович Свенцицкий. Тоже заслуженный артист России, режиссёр, писатель и партнёр по сцене. 62 года прожили они вместе.
Как-то Анатолий Борисович тяжело заболел. Врачи говорили, что надежды на выздоровление нет. Но ночью в больнице ему явился святой патриарх Тихон и сказал:
— Ты не умрёшь. Ты не сделал главное дело твоей жизни.
И потом десять лет Анатолий Борисович занимался тем, что возвращал Церкви храм своего детства — Успения Божией Матери на Могильцах.
А Ирина Васильевна вошла в состав попечительского совета храма Георгия Победоносца, который будет строиться в Москве. Возможно, активное долголетие дано ей для этого.
У нас в стране было много прекрасных чтецов. Слушать стихи приходили тысячи людей.
— Сидели на моих моноспектаклях три часа, не расходились, — вспоминает Ирина Васильевна.
Сейчас этот жанр незаслуженно забыт. Но на концертах у Костровой много молодёжи. Она приходит не только послушать, но ещё и поучиться читать стихи. Возможно, возрождение жанра — одна из задач Ирины Васильевны.
Недавно умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Ирина Васильевна знала его много лет. Когда-то они вместе играли в театре, вместе ездили с концертами на целину, в бескрайние степи.
Однажды группу артистов перевозили из одного поселения в другое — на танке, ночью, в сорокаградусный мороз. Танк заглох. Что было делать? И Александр Ширвиндт пошёл в темноту за помощью. По незнакомой местности, рискуя погибнуть. Отыскал жильё, людей. Артисты были спасены. Возможно, Ирине Васильевне надо было вспомнить эту историю и рассказать нам.
Долгожители — удивительная тайна Божия. Они соединяют поколения, несут потомкам живую память о прошлом. А без прошлого нет будущего.
— Трудности бывают у всех, — говорит Ирина Васильевна. — Их надо преодолевать и не унывать.
Запомним эту мудрость долгой, полной, прекрасной жизни.
4 апреля заслуженной артистке России Ирине Костровой исполнился 101 год.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
У нас в стране было много прекрасных чтецов. Слушать стихи приходили тысячи людей.
— Сидели на моих моноспектаклях три часа, не расходились, — вспоминает Ирина Васильевна.
Сейчас этот жанр незаслуженно забыт. Но на концертах у Костровой много молодёжи. Она приходит не только послушать, но ещё и поучиться читать стихи. Возможно, возрождение жанра — одна из задач Ирины Васильевны.
Недавно умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Ирина Васильевна знала его много лет. Когда-то они вместе играли в театре, вместе ездили с концертами на целину, в бескрайние степи.
Однажды группу артистов перевозили из одного поселения в другое — на танке, ночью, в сорокаградусный мороз. Танк заглох. Что было делать? И Александр Ширвиндт пошёл в темноту за помощью. По незнакомой местности, рискуя погибнуть. Отыскал жильё, людей. Артисты были спасены. Возможно, Ирине Васильевне надо было вспомнить эту историю и рассказать нам.
Долгожители — удивительная тайна Божия. Они соединяют поколения, несут потомкам живую память о прошлом. А без прошлого нет будущего.
— Трудности бывают у всех, — говорит Ирина Васильевна. — Их надо преодолевать и не унывать.
Запомним эту мудрость долгой, полной, прекрасной жизни.
4 апреля заслуженной артистке России Ирине Костровой исполнился 101 год.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
2023

Ну, или, если и меньше, то совсем чуть-чуть. Ведь солистка «Москонцерта», заслуженная артистка России Ирина Кострова, чей столетний (!) юбилей на днях торжественно отметили в Государственном Кремлёвском Дворце, увлеклась театром ещё в раннем детстве. И пронесла свою огромную любовь к искусству через десятилетия.
Ирина Васильевна родилась в 1923-м в Москве, на улице Вахтангова (ныне - Большой Николопесковский переулок). Здесь, в самом сердце столицы, она окончила школу. На следующий день после выпускного вечера началась Великая Отечественная война...
Ирина Васильевна родилась в 1923-м в Москве, на улице Вахтангова (ныне - Большой Николопесковский переулок). Здесь, в самом сердце столицы, она окончила школу. На следующий день после выпускного вечера началась Великая Отечественная война...
Рвавшуюся на фронт Ирину Кострову на передовую не взяли по возрасту. Работала на заводе, рыла окопы под Москвой. Отморозив ноги, получила гангрену, к счастью, попала в руки хорошего доктора, который её спас. Окончила с отличием курсы медсестёр, выхаживала бойцов в госпитале, но мечта о театральном вузе не отпускала. Из Ульяновска, куда эвакуировали предприятие, на котором работал отец, и куда после медицинских курсов перебралась и Ирина, девушка с невероятными приключениями – время-то военное, до Москвы ни на чём не добраться – окольными путями вернулась в столицу и опять-таки вопреки всем обстоятельствам (не иначе как её направляла сама судьба) сумела поступить в единственное функционировавшее тогда учебное заведение – Городское театральное училище, организованное на базе ГИТИСа.
Педагоги прочили ей блестящее будущее, но сделать карьеру талантливой выпускнице оказалось не так-то просто: по советским меркам сильно подкачала биография. Дело в том, что у Ирины Костровой – дворянские корни. Её отец, Василий Никитич, окончил инженерное училище в Санкт-Петербурге, воевал в Первую мировую войну, награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святого Александра Невского. Бабушка Ирины по материнской линии, Стефания Карловна Суховецкая-Исполатова – полька, была известной художницей, выставлялась в Третьяковской галерее. Ирина Васильевна вспоминает, что в анкетах она всегда честно писала: «Отец – бывший белогвардеец, бабушка – полька…», после чего, как несложно догадаться, отдел кадров накладывал вето на её зачисление в очередную труппу. От отчаяния Ирина была на грани суицида, но тут провидение всё-таки сжалилось над ней: она обратилась в существовавший тогда Второй армейский театр, и его художественный руководитель Виктор Громов сумел отстоять молодую актрису. В её репертуаре появились главные роли. А потом девушку заметила сама Мария Кнебель! Выдающийся педагог и режиссёр, ученица Станиславского, Мария Осиповна пригласила Кострову в свой театр Центрального дома культуры железнодорожников. Ирина Васильевна вспоминает, что репертуар у труппы был прекрасный, и она гордилась сыгранными там ролями. Какое-то время она служила и в «Ленкоме», но однажды перешла в «Москонцерт» – и осталась в нём навсегда. Поэзия, величие и красота русского слова – это оказалось настоящим призванием и творческой страстью Ирины Костровой.
Она всегда обожала поэзию конца XIX – начала XXвека. И теперь могла составлять программы и читать авторов своего обожаемого Серебряного века публике. Это была одновременно художественная и просветительская миссия, ради которой она, похоже, и родилась. Кстати, на своём юбилейном концерте в Дипломатическом зале ГКД Ирина Кострова тоже читала стихи. И подарила возможность гостям вечера открыть для себя произведения, которые наверняка многие теперь будут перечитывать вновь и вновь. В частности, созданные Миррой Лохвицкой (Ирина Васильевна подчеркнула, что ударение в фамилии автора делается на первом слоге) – её строками зачитывались юная Ирина и её сверстники, всеми правдами и неправдами доставая заветные сборники. И действительно, это настоящая большая поэзия, не зря многие исследователи именно Мирру Александровну Лохвицкую (1869-1905) считают основоположницей русской «женской поэзии» прошлого века, предшественницей Марины Ивановны Цветаевой и Анны Андреевны Ахматовой.
Я не знаю, зачем упрекают меня,
Что в созданьях моих слишком много огня,
Что стремлюсь я навстречу живому лучу
И наветам унынья внимать не хочу.
Что блещу я царицей в нарядных стихах,
С диадемой на пышных моих волосах,
Что из рифм я себе ожерелье плету,
Что пою я любовь, что пою красоту.
Но бессмертья я смертью своей не куплю,
И для песен я звонкие песни люблю.
И безумью ничтожных мечтаний моих
Не изменит мой жгучий, мой женственный стих.
Ирина Кострова вдохновенно прочитала эти строки, было видно, что они близки ей внутренне. И ещё одним изумительным стихотворением Мирры Лохвицкой порадовала слушателей актриса. Посвящено оно Константину Бальмонту:
Эти рифмы — твои иль ничьи,
Я узнала их говор певучий,
С ними песни звенят, как ручьи,
Перезвоном хрустальных созвучий.
Я узнала прозрачный твой стих,
Полный образов сладко-туманных,
Сочетаний нежданных и странных
Арабесок твоих кружевных.
И, внимая напевам невнятным,
Я желаньем томлюсь непонятным:
Я б хотела быть рифмой твоей,
Быть, как рифма, — твоей иль ничьей.
Вообще весь юбилейный вечер Ирины Васильевны Костровой – а он получился удивительно тёплым, уютным, позитивным и невероятно вдохновляющим – строился как чередование концертных номеров, посвящённых юбиляру, и литературных фрагментов, когда сама Ирина Кострова читала (на память!) поэтические композиции. Ахматова, Цветаева, Бальмонт, Гумилёв… Анна Ахматова – особая любовь актрисы. В исполнении Ирины Костровой фантастически прозвучала и любовная лирика поэтессы, и её исполненные мощного гражданского посыла строки, такие актуальные сегодня:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час.
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.
Ирина Кострова пояснила, что эти стихи – ответ Ахматовой русской эмиграции, которая очень хотела «заполучить» её и сделать своим знаменем.
А потом Ирина Васильевна прочитала ещё одно стихотворение Анны Андреевны, напрямую соотнеся его с сегодняшним периодом в жизни страны:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
«Мы обязательно победим!» – констатировала Ирина Васильевна. И зал в очередной раз разразился аплодисментами бесконечного восхищения этой удивительной женщиной.
На самом деле невозможно не согласиться с народным артистом России Игорем Верником, который вёл юбилейную программу: как бы ни восхищала всех нас цифра 100 на афише, соотнести её с Ириной Васильевной Костровой невозможно. Вот она, сидит на сцене, царственно прекрасная, элегантная, подтянутая, излучающая такую жизненную энергию, которой могут позавидовать многие вполне ещё молодые люди. Вкус и любовь к жизни, умение наслаждаться каждым мгновением, погружённость в творчество – в первую очередь истоки её долголетия, похоже, надо искать именно в этом. Да и сама Ирина Кострова (кстати, ведущий лишь изредка называл виновницу торжества по имени и отчеству, чаще он обращался к ней по имени, и в данном случае это выглядело вполне естественно и уместно) на вопрос журналистов о том, что позволяет ей оставаться в столь прекрасной форме, отвечала однозначно и без колебаний: «Неуспокоенность, жажда творчества и умение созидать!»
Прав был Игорь Верник и в том, что оказаться на такой встрече – огромное счастье для каждого. Прежде всего, потому, что это уникальное, без преувеличения, историческое событие. А ещё потому, что удивительная героиня юбилейного вечера явила всем нам пример того, как на самом деле можно правильно распорядиться своей жизнью: не растрачивая бесценные часы и дни на суету, безделье, бессмысленное времяпрепровождение, конфликты, склоки, негатив. Вместо всего этого у людей есть возможность любить, творить, наслаждаться красотой мира, помогать друг другу. И тогда, сколько бы лет судьба нам ни отпустила, это будет достойное, яркое и увлекательное путешествие сквозь время к новым высотам, достигая которых мы радуемся и понимаем: «Всё было не напрасно!».
В этот памятный вечер, конечно же, к ногам прекрасной Ирины Костровой было принесено немало роскошных букетов. И первый Ирине Викторовне вручил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Кибовский. «Это очень почётно для Москвы, – подчеркнул Александр Владимирович, – что из 78 лет, а именно таков творческий стаж Ирины Васильевны Костровой, большую часть времени она работала именно в нашем городе, в столичных театрах, в «Москонцерте». И уточнил: «Ирина Васильевна сегодня – самый опытный действующий артист не только в нашей стране, но и в мире, и мы, конечно, очень этим гордимся».
Александр Кибовский сообщил, что Указом мэра Москвы Ирине Костровой присвоено звание «Почётный деятель искусств города Москвы». Это высший знак признания творческих заслуг в столице, и, как пояснил министр, присваивается оно очень редко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Ирину Васильевну Кострову Ордена Святой равноапостольной княгини Ольги.
«Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира, неоскудевающей помощи Божией и добрых дел, и новых творческих свершений», – говорилось в его поздравлении, адресованном юбиляру.
Но, разумеется, самое главное поздравление Ирина Васильевна получила от президента нашей страны. Приведём его полностью:
«Уважаемая Ирина Васильевна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени. Поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации Владимир Путин».
Что же касается музыкальных подношений, то их женщине-легенде сделали в этот вечер и знаменитые звёзды – народные артисты России Сергей Жилин и Галина Беседина, заслуженные артисты России Нина Шацкая и Ян Осин, и молодые талантливые исполнители Сурен Платонов и Мари Карне. И то, как эмоционально, радостно реагировала на происходящее именинница, ещё раз убеждало: паспортный возраст – вещь весьма условная, главное же – внутреннее ощущение человеком времени и себя в нём, состояние его души.
Певица Елена Максимова вышла на сцену с изящным букетом цветов и, вручив их виновнице торжества, исполнила – прежде всего, для неё – «Вальс фронтовой медсестры» Д. Тухманова – В. Харитонова. Как же слушала его Ирина Васильевна! Было совершенно понятно, что она в эти минуты заново переживает свою военную молодость. Некоторые гости даже не могли сдержать слёз…
Наверное, именно в таком живом общении и рождается настоящая и так на самом деле необходимая всем нам связь поколений, ценность которой невозможно определить никаким материальным эквивалентом.
Многие из выступавших являются коллегами Ирины Костровой по «Москонцерту», как, например, пианистка Валентина Лисица, исполнившая Прелюдию соль минор №5 Сергея Рахманинова, любимого композитора Ирины Васильевны, и Александр Гладков и Сергей Борзов, которые вместе с Яном Осиным посвятили имениннице песню «Королева красоты» А. Бабаджаняна – А. Горохова. Артистичные участники импровизированного трио, завершив выступление, ещё долго стояли коленопреклонёнными перед героиней вечера, выражая ей своё восхищение. После чего все участники программы во главе с Игорем Верником, при дружной поддержке зала, спели «С Днём рождения, Ирина!».
Ну а потом на сцену ринулись многочисленные почитатели таланта актрисы и её друзья. Цветы, объятия, автографы, разговоры… В какой-то момент Верник начал вежливо поторапливать гостей, объясняя, что лимит отведённого для праздника времени исчерпан. Впрочем, он ещё раньше взял с Ирины Васильевны Костровой обещание, что именно здесь она отметит свой следующий юбилей. На этой ноте все и расставались…
Материал подготовлен пресс-службой Государственного Кремлёвского Дворца.
Фото: Екатерина ЛОЛА
Педагоги прочили ей блестящее будущее, но сделать карьеру талантливой выпускнице оказалось не так-то просто: по советским меркам сильно подкачала биография. Дело в том, что у Ирины Костровой – дворянские корни. Её отец, Василий Никитич, окончил инженерное училище в Санкт-Петербурге, воевал в Первую мировую войну, награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святого Александра Невского. Бабушка Ирины по материнской линии, Стефания Карловна Суховецкая-Исполатова – полька, была известной художницей, выставлялась в Третьяковской галерее. Ирина Васильевна вспоминает, что в анкетах она всегда честно писала: «Отец – бывший белогвардеец, бабушка – полька…», после чего, как несложно догадаться, отдел кадров накладывал вето на её зачисление в очередную труппу. От отчаяния Ирина была на грани суицида, но тут провидение всё-таки сжалилось над ней: она обратилась в существовавший тогда Второй армейский театр, и его художественный руководитель Виктор Громов сумел отстоять молодую актрису. В её репертуаре появились главные роли. А потом девушку заметила сама Мария Кнебель! Выдающийся педагог и режиссёр, ученица Станиславского, Мария Осиповна пригласила Кострову в свой театр Центрального дома культуры железнодорожников. Ирина Васильевна вспоминает, что репертуар у труппы был прекрасный, и она гордилась сыгранными там ролями. Какое-то время она служила и в «Ленкоме», но однажды перешла в «Москонцерт» – и осталась в нём навсегда. Поэзия, величие и красота русского слова – это оказалось настоящим призванием и творческой страстью Ирины Костровой.
Она всегда обожала поэзию конца XIX – начала XXвека. И теперь могла составлять программы и читать авторов своего обожаемого Серебряного века публике. Это была одновременно художественная и просветительская миссия, ради которой она, похоже, и родилась. Кстати, на своём юбилейном концерте в Дипломатическом зале ГКД Ирина Кострова тоже читала стихи. И подарила возможность гостям вечера открыть для себя произведения, которые наверняка многие теперь будут перечитывать вновь и вновь. В частности, созданные Миррой Лохвицкой (Ирина Васильевна подчеркнула, что ударение в фамилии автора делается на первом слоге) – её строками зачитывались юная Ирина и её сверстники, всеми правдами и неправдами доставая заветные сборники. И действительно, это настоящая большая поэзия, не зря многие исследователи именно Мирру Александровну Лохвицкую (1869-1905) считают основоположницей русской «женской поэзии» прошлого века, предшественницей Марины Ивановны Цветаевой и Анны Андреевны Ахматовой.
Я не знаю, зачем упрекают меня,
Что в созданьях моих слишком много огня,
Что стремлюсь я навстречу живому лучу
И наветам унынья внимать не хочу.
Что блещу я царицей в нарядных стихах,
С диадемой на пышных моих волосах,
Что из рифм я себе ожерелье плету,
Что пою я любовь, что пою красоту.
Но бессмертья я смертью своей не куплю,
И для песен я звонкие песни люблю.
И безумью ничтожных мечтаний моих
Не изменит мой жгучий, мой женственный стих.
Ирина Кострова вдохновенно прочитала эти строки, было видно, что они близки ей внутренне. И ещё одним изумительным стихотворением Мирры Лохвицкой порадовала слушателей актриса. Посвящено оно Константину Бальмонту:
Эти рифмы — твои иль ничьи,
Я узнала их говор певучий,
С ними песни звенят, как ручьи,
Перезвоном хрустальных созвучий.
Я узнала прозрачный твой стих,
Полный образов сладко-туманных,
Сочетаний нежданных и странных
Арабесок твоих кружевных.
И, внимая напевам невнятным,
Я желаньем томлюсь непонятным:
Я б хотела быть рифмой твоей,
Быть, как рифма, — твоей иль ничьей.
Вообще весь юбилейный вечер Ирины Васильевны Костровой – а он получился удивительно тёплым, уютным, позитивным и невероятно вдохновляющим – строился как чередование концертных номеров, посвящённых юбиляру, и литературных фрагментов, когда сама Ирина Кострова читала (на память!) поэтические композиции. Ахматова, Цветаева, Бальмонт, Гумилёв… Анна Ахматова – особая любовь актрисы. В исполнении Ирины Костровой фантастически прозвучала и любовная лирика поэтессы, и её исполненные мощного гражданского посыла строки, такие актуальные сегодня:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключённый, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час.
Но в мире нет людей бесслёзней,
Надменнее и проще нас.
Ирина Кострова пояснила, что эти стихи – ответ Ахматовой русской эмиграции, которая очень хотела «заполучить» её и сделать своим знаменем.
А потом Ирина Васильевна прочитала ещё одно стихотворение Анны Андреевны, напрямую соотнеся его с сегодняшним периодом в жизни страны:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
«Мы обязательно победим!» – констатировала Ирина Васильевна. И зал в очередной раз разразился аплодисментами бесконечного восхищения этой удивительной женщиной.
На самом деле невозможно не согласиться с народным артистом России Игорем Верником, который вёл юбилейную программу: как бы ни восхищала всех нас цифра 100 на афише, соотнести её с Ириной Васильевной Костровой невозможно. Вот она, сидит на сцене, царственно прекрасная, элегантная, подтянутая, излучающая такую жизненную энергию, которой могут позавидовать многие вполне ещё молодые люди. Вкус и любовь к жизни, умение наслаждаться каждым мгновением, погружённость в творчество – в первую очередь истоки её долголетия, похоже, надо искать именно в этом. Да и сама Ирина Кострова (кстати, ведущий лишь изредка называл виновницу торжества по имени и отчеству, чаще он обращался к ней по имени, и в данном случае это выглядело вполне естественно и уместно) на вопрос журналистов о том, что позволяет ей оставаться в столь прекрасной форме, отвечала однозначно и без колебаний: «Неуспокоенность, жажда творчества и умение созидать!»
Прав был Игорь Верник и в том, что оказаться на такой встрече – огромное счастье для каждого. Прежде всего, потому, что это уникальное, без преувеличения, историческое событие. А ещё потому, что удивительная героиня юбилейного вечера явила всем нам пример того, как на самом деле можно правильно распорядиться своей жизнью: не растрачивая бесценные часы и дни на суету, безделье, бессмысленное времяпрепровождение, конфликты, склоки, негатив. Вместо всего этого у людей есть возможность любить, творить, наслаждаться красотой мира, помогать друг другу. И тогда, сколько бы лет судьба нам ни отпустила, это будет достойное, яркое и увлекательное путешествие сквозь время к новым высотам, достигая которых мы радуемся и понимаем: «Всё было не напрасно!».
В этот памятный вечер, конечно же, к ногам прекрасной Ирины Костровой было принесено немало роскошных букетов. И первый Ирине Викторовне вручил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Кибовский. «Это очень почётно для Москвы, – подчеркнул Александр Владимирович, – что из 78 лет, а именно таков творческий стаж Ирины Васильевны Костровой, большую часть времени она работала именно в нашем городе, в столичных театрах, в «Москонцерте». И уточнил: «Ирина Васильевна сегодня – самый опытный действующий артист не только в нашей стране, но и в мире, и мы, конечно, очень этим гордимся».
Александр Кибовский сообщил, что Указом мэра Москвы Ирине Костровой присвоено звание «Почётный деятель искусств города Москвы». Это высший знак признания творческих заслуг в столице, и, как пояснил министр, присваивается оно очень редко.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Ирину Васильевну Кострову Ордена Святой равноапостольной княгини Ольги.
«Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира, неоскудевающей помощи Божией и добрых дел, и новых творческих свершений», – говорилось в его поздравлении, адресованном юбиляру.
Но, разумеется, самое главное поздравление Ирина Васильевна получила от президента нашей страны. Приведём его полностью:
«Уважаемая Ирина Васильевна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени. Поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации Владимир Путин».
Что же касается музыкальных подношений, то их женщине-легенде сделали в этот вечер и знаменитые звёзды – народные артисты России Сергей Жилин и Галина Беседина, заслуженные артисты России Нина Шацкая и Ян Осин, и молодые талантливые исполнители Сурен Платонов и Мари Карне. И то, как эмоционально, радостно реагировала на происходящее именинница, ещё раз убеждало: паспортный возраст – вещь весьма условная, главное же – внутреннее ощущение человеком времени и себя в нём, состояние его души.
Певица Елена Максимова вышла на сцену с изящным букетом цветов и, вручив их виновнице торжества, исполнила – прежде всего, для неё – «Вальс фронтовой медсестры» Д. Тухманова – В. Харитонова. Как же слушала его Ирина Васильевна! Было совершенно понятно, что она в эти минуты заново переживает свою военную молодость. Некоторые гости даже не могли сдержать слёз…
Наверное, именно в таком живом общении и рождается настоящая и так на самом деле необходимая всем нам связь поколений, ценность которой невозможно определить никаким материальным эквивалентом.
Многие из выступавших являются коллегами Ирины Костровой по «Москонцерту», как, например, пианистка Валентина Лисица, исполнившая Прелюдию соль минор №5 Сергея Рахманинова, любимого композитора Ирины Васильевны, и Александр Гладков и Сергей Борзов, которые вместе с Яном Осиным посвятили имениннице песню «Королева красоты» А. Бабаджаняна – А. Горохова. Артистичные участники импровизированного трио, завершив выступление, ещё долго стояли коленопреклонёнными перед героиней вечера, выражая ей своё восхищение. После чего все участники программы во главе с Игорем Верником, при дружной поддержке зала, спели «С Днём рождения, Ирина!».
Ну а потом на сцену ринулись многочисленные почитатели таланта актрисы и её друзья. Цветы, объятия, автографы, разговоры… В какой-то момент Верник начал вежливо поторапливать гостей, объясняя, что лимит отведённого для праздника времени исчерпан. Впрочем, он ещё раньше взял с Ирины Васильевны Костровой обещание, что именно здесь она отметит свой следующий юбилей. На этой ноте все и расставались…
Материал подготовлен пресс-службой Государственного Кремлёвского Дворца.
Фото: Екатерина ЛОЛА
«Семейная православная газета», апрель, 10, 2023

начало статьи
Заслуженной артистке России Ирине Васильевне Костровой исполняется 100 лет.
Дух захватывает от мысли, что на свою жизнь, на жизнь страны она смотрит — с высоты века.
— Наше поколение — особое, — уверена Ирина Васильевна. — Мы терпели всё — холод, голод, тяжёлый труд.
Главное для нас было — строить жизнь.
Творческое созидание, интерес к каждому дню всегда сохранялись в ней.
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Это Ахматова. И это — Кострова.
Заслуженной артистке России Ирине Васильевне Костровой исполняется 100 лет.
Дух захватывает от мысли, что на свою жизнь, на жизнь страны она смотрит — с высоты века.
— Наше поколение — особое, — уверена Ирина Васильевна. — Мы терпели всё — холод, голод, тяжёлый труд.
Главное для нас было — строить жизнь.
Творческое созидание, интерес к каждому дню всегда сохранялись в ней.
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Это Ахматова. И это — Кострова.
ТАЙНА ВЫСОКОЙ ПОЭЗИИ
Шли годы, а с годами к людям приходят болезни. У Костровой и её супруга Свенцицкого, как у всех, одно испытание сменялось другим. Анатолию Борисовичу срочно требовалась небольшая операция. Но никто из врачей не соглашался её делать. Наконец, один хирург взялся.
Свенцицкого увезли в операционную. Ирина Васильевна ожидала в коридоре результата и молилась. Очень волновалась. Наконец вывезли каталку, на которой лежал больной.
— Как? Что? — спрашивала Ирина Васильевна.
Врач улыбался:
— Жить будет. Никогда у меня не было такой операции. Больной всё время читал стихи.
Поэзия называется высокой, если вдохновение к поэту приходит с неба. Стихи сродни молитве и реально преображают человека. Ещё один случай подтверждает это.
Ирина Васильевна и Анатолий Борисович с друзьями поехали за город. Гуляли по лесу. Свенцицкому стало плохо. Его уложили на поваленное дерево и побежали в деревню вызывать «скорую». Возвращаются с доктором. Анатолий Борисович лежит на прежнем месте и читает стихи.
— К тебе врач! — сказали ему.
— Какой врач? — удивился он. — Зачем?
Свенцицкий уже забыл о болезни. Дышал высотой и красотой слова.
То же самое видела Кострова на концертах. Люди приходили в зрительный зал после работы уставшие. Постепенно усталость испарялась. Исчезал груз забот. Слушатели преображались, не хотели расставаться с артисткой. Снова и снова вызывали её аплодисментами.
Ирина Васильевна любила и была любима. Ей хотелось говорить со всеми о любви, прекрасной и трагичной, как всё в нашем таинственном мире:
Сжала руки под тёмной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдёшь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
— Литературные вечера всегда нравились людям, — по опыту знает Ирина Васильевна. — Поэты вскрывают сущность человеческого духа. И каждый понимает, каким надо быть, какую волю иметь. Человек любой специальности должен быть образован. И тогда сможет интересно построить жизнь, найти спутника.
ХРАМ ДЕТСТВА
В 1990-х годах Кострова и Свенцицкий стали заслуженными артистами России. И тут Анатолий Борисович тяжело заболел.
Ирину Васильевну предупредили: у него нет шансов выжить. Сам он тоже не сомневался в скором уходе. Но во сне ему явился святой Патриарх Тихон. Маленький Толя видел его в детстве.
— Ты не умрёшь, — сказал святитель. — Тебе надо сделать главное дело твоей жизни.
Какое? Это скоро открылось. Свенцицкому предложили стать старостой храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Прежде всего здание надо было вернуть Церкви. А там расположились крутые личности. И выезжать не собирались. Анатолию Борисовичу звонили, угрожали, что убьют. Перепуганная Ирина Васильевна вставала на колени перед мужем и умоляла:
— Толюша, оставь это дело!
Но он отвечал:
— Как?! Я не восстановлю храм своего детства? Пусть убивают!
Десять лет прошло, прежде чем в храме состоялось первое Богослужение. Накануне Анатолию Борисовичу приснился священник, который был последним настоятелем прихода.
— Как я рад вас видеть здесь! — воскликнул во сне Свенцицкий.
— А я отсюда никогда не уходил, — прозвучало в ответ.
Удивительные слова! Они открывают, как неразрывно связаны мы с вечностью и вечность — с нами.
ПАМЯТЬ
Анатолий Борисович преставился к Богу, когда ему было почти восемьдесят шесть лет. Но из жизни Ирины Васильевны, своих друзей он тоже никогда не уходил.
— Лучше него никого не было и не будет, — уверена Ирина Васильевна.
У неё началась совсем другая жизнь. Они с мужем никогда не заботились о наследии. А тут ей стало ясно: надо сохранить их поэтические программы. Перевести записи с устаревших кассет — на диски. Ирина Васильевна сделала два фильма о Свенцицком. Издала его книгу, над которой он работал последние годы.
Но не только прошлое нуждалось в Костровой. В ней нуждалось настоящее. Артистка продолжала выступать, дарить зрителям высокую поэзию. На своём 85-летнем юбилее в Центральном доме работников искусств читала стихи Ахматовой.
Накануне Ирина Васильевна волновалась:
— Наши ровесники почти все умерли. Неужели будет пустой зал?
Зал был переполнен. В проходе на ступеньках сидели студенты театрального училища. Они пришли учиться у настоящей русской артистки. Слушали настоящую русскую речь:
Наше священное ремесло
Существует тысячи лет.
С нами без света миру светло.
Но ещё ни один не сказал поэт,
Что старости нет и мудрости нет,
А, может, и смерти нет…
Три года назад Ирина Кострова подготовила новый поэтический моноспектакль «Судеб скрещенье». Помните у Пастернака: «судьбы скрещенье»? А тут — во множественном числе. Там стихи Бальмонта и Лохвицкой, Ахматовой и Блока, Цветаевой и Маяковского…
НОВОЕ
Уже несколько лет накануне спектакля Ирина Васильевна замечает — как бы между прочим:
— Возможно, этот — последний!
Но Господь продляет её дни, даёт силы. Стихами она напоминает людям: жизнь трудна — и прекрасна. Правильно одно — благодарить за неё Бога, радоваться каждому дню, видеть красоту, не забывать о бессмертии:
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…
Там средь стволов ещё светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда.
Утром она долго «расхаживается». Пьёт кофе. Курит. Смеётся, когда вспоминает, как Анатолий Борисович боролся с её курением, а к концу жизни сам ходил покупать для неё сигареты.
— Люди жалуются на трудности, — отмечает Кострова. — Но наша жизнь гораздо легче, чем у наших родителей. Там были голод, аресты, ужас…
Как-то к Ирине Васильевне по вечерам стал приезжать один молодой человек. Она спросила его с юмором:
— Что вы так зачастили? Влюбились в меня?
Он смутился, даже покраснел. И объяснил:
— Куда ни придёшь, всюду говорят о деньгах. А с вами об интересном поговорить можно.
Вот и я время от времени звоню Ирине Васильевне — поговорить об интересном. На любую тему. Как-то не получалось у меня придумать, о чём написать ко Дню Победы. Пожаловалась Ирине Васильевне. А она начала читать стихи Максима Геттуева:
И рядом со мною
В сполохах розовых,
Навечно к груди прижав автомат,
На людных дорогах
В шинелях бронзовых
Солдаты бронзовые стоят.
— А ведь это наш бессмертный полк, — сказала Ирина Васильевна. — Сорок восемь человек было в моём классе. С войны вернулись только три мальчика. Три воина-победителя.
Потом Костровой вспомнились строки Юлии Друниной:
Мы стояли у Москвы-реки,
Тёплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел —
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
— Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Миномёты били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот, лежим и мёрзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..
Она читала стихи целый час. И я написала об Ирине Васильевне, её богатой душе и этом концерте — для одного слушателя.
СТОЛЕТИЕ
Ирина Васильевна отметила юбилей в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца. В красивом платье она вышла на сцену под руку с министром культуры Москвы. Тот усадил её в кресло, подошёл к микрофону:
— Я часто ссылаюсь на слова Ирины Васильевны. Как-то её спросили, что она думает о современном театре. Попробуйте ответить на этот вопрос! А Ирина Васильевна сказала: «Артист должен быть виден, слышен и понятен. А сейчас артиста видно, иногда — слышно, почти никогда ничего не понятно».
Ещё одно почётное звание присвоили Ирине Васильевне — заслуженного деятеля искусств Москвы. Её поздравил Президент. Патриарх наградил орденом Святой равноапостольной Ольги.
Министр подарил ей букет из 101 розы. Ведущий вечера Игорь Верник положил цветы к ногам артистки. А потом перенёс к заднику сцены. Там прибавлялись и прибавлялись букеты.
Но одну цветочную композицию Ирина Васильевна не дала унести:
— Нет! Оставьте!
Цветы стояли перед ней, она всё время прикасалась к ним. Любовалась. Вспоминала о чём-то. О ком-то.
Артисты пели. Играли на рояле. А Ирина Васильевна читала и читала стихи:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
Шли годы, а с годами к людям приходят болезни. У Костровой и её супруга Свенцицкого, как у всех, одно испытание сменялось другим. Анатолию Борисовичу срочно требовалась небольшая операция. Но никто из врачей не соглашался её делать. Наконец, один хирург взялся.
Свенцицкого увезли в операционную. Ирина Васильевна ожидала в коридоре результата и молилась. Очень волновалась. Наконец вывезли каталку, на которой лежал больной.
— Как? Что? — спрашивала Ирина Васильевна.
Врач улыбался:
— Жить будет. Никогда у меня не было такой операции. Больной всё время читал стихи.
Поэзия называется высокой, если вдохновение к поэту приходит с неба. Стихи сродни молитве и реально преображают человека. Ещё один случай подтверждает это.
Ирина Васильевна и Анатолий Борисович с друзьями поехали за город. Гуляли по лесу. Свенцицкому стало плохо. Его уложили на поваленное дерево и побежали в деревню вызывать «скорую». Возвращаются с доктором. Анатолий Борисович лежит на прежнем месте и читает стихи.
— К тебе врач! — сказали ему.
— Какой врач? — удивился он. — Зачем?
Свенцицкий уже забыл о болезни. Дышал высотой и красотой слова.
То же самое видела Кострова на концертах. Люди приходили в зрительный зал после работы уставшие. Постепенно усталость испарялась. Исчезал груз забот. Слушатели преображались, не хотели расставаться с артисткой. Снова и снова вызывали её аплодисментами.
Ирина Васильевна любила и была любима. Ей хотелось говорить со всеми о любви, прекрасной и трагичной, как всё в нашем таинственном мире:
Сжала руки под тёмной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдёшь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
— Литературные вечера всегда нравились людям, — по опыту знает Ирина Васильевна. — Поэты вскрывают сущность человеческого духа. И каждый понимает, каким надо быть, какую волю иметь. Человек любой специальности должен быть образован. И тогда сможет интересно построить жизнь, найти спутника.
ХРАМ ДЕТСТВА
В 1990-х годах Кострова и Свенцицкий стали заслуженными артистами России. И тут Анатолий Борисович тяжело заболел.
Ирину Васильевну предупредили: у него нет шансов выжить. Сам он тоже не сомневался в скором уходе. Но во сне ему явился святой Патриарх Тихон. Маленький Толя видел его в детстве.
— Ты не умрёшь, — сказал святитель. — Тебе надо сделать главное дело твоей жизни.
Какое? Это скоро открылось. Свенцицкому предложили стать старостой храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Прежде всего здание надо было вернуть Церкви. А там расположились крутые личности. И выезжать не собирались. Анатолию Борисовичу звонили, угрожали, что убьют. Перепуганная Ирина Васильевна вставала на колени перед мужем и умоляла:
— Толюша, оставь это дело!
Но он отвечал:
— Как?! Я не восстановлю храм своего детства? Пусть убивают!
Десять лет прошло, прежде чем в храме состоялось первое Богослужение. Накануне Анатолию Борисовичу приснился священник, который был последним настоятелем прихода.
— Как я рад вас видеть здесь! — воскликнул во сне Свенцицкий.
— А я отсюда никогда не уходил, — прозвучало в ответ.
Удивительные слова! Они открывают, как неразрывно связаны мы с вечностью и вечность — с нами.
ПАМЯТЬ
Анатолий Борисович преставился к Богу, когда ему было почти восемьдесят шесть лет. Но из жизни Ирины Васильевны, своих друзей он тоже никогда не уходил.
— Лучше него никого не было и не будет, — уверена Ирина Васильевна.
У неё началась совсем другая жизнь. Они с мужем никогда не заботились о наследии. А тут ей стало ясно: надо сохранить их поэтические программы. Перевести записи с устаревших кассет — на диски. Ирина Васильевна сделала два фильма о Свенцицком. Издала его книгу, над которой он работал последние годы.
Но не только прошлое нуждалось в Костровой. В ней нуждалось настоящее. Артистка продолжала выступать, дарить зрителям высокую поэзию. На своём 85-летнем юбилее в Центральном доме работников искусств читала стихи Ахматовой.
Накануне Ирина Васильевна волновалась:
— Наши ровесники почти все умерли. Неужели будет пустой зал?
Зал был переполнен. В проходе на ступеньках сидели студенты театрального училища. Они пришли учиться у настоящей русской артистки. Слушали настоящую русскую речь:
Наше священное ремесло
Существует тысячи лет.
С нами без света миру светло.
Но ещё ни один не сказал поэт,
Что старости нет и мудрости нет,
А, может, и смерти нет…
Три года назад Ирина Кострова подготовила новый поэтический моноспектакль «Судеб скрещенье». Помните у Пастернака: «судьбы скрещенье»? А тут — во множественном числе. Там стихи Бальмонта и Лохвицкой, Ахматовой и Блока, Цветаевой и Маяковского…
НОВОЕ
Уже несколько лет накануне спектакля Ирина Васильевна замечает — как бы между прочим:
— Возможно, этот — последний!
Но Господь продляет её дни, даёт силы. Стихами она напоминает людям: жизнь трудна — и прекрасна. Правильно одно — благодарить за неё Бога, радоваться каждому дню, видеть красоту, не забывать о бессмертии:
И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…
Там средь стволов ещё светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда.
Утром она долго «расхаживается». Пьёт кофе. Курит. Смеётся, когда вспоминает, как Анатолий Борисович боролся с её курением, а к концу жизни сам ходил покупать для неё сигареты.
— Люди жалуются на трудности, — отмечает Кострова. — Но наша жизнь гораздо легче, чем у наших родителей. Там были голод, аресты, ужас…
Как-то к Ирине Васильевне по вечерам стал приезжать один молодой человек. Она спросила его с юмором:
— Что вы так зачастили? Влюбились в меня?
Он смутился, даже покраснел. И объяснил:
— Куда ни придёшь, всюду говорят о деньгах. А с вами об интересном поговорить можно.
Вот и я время от времени звоню Ирине Васильевне — поговорить об интересном. На любую тему. Как-то не получалось у меня придумать, о чём написать ко Дню Победы. Пожаловалась Ирине Васильевне. А она начала читать стихи Максима Геттуева:
И рядом со мною
В сполохах розовых,
Навечно к груди прижав автомат,
На людных дорогах
В шинелях бронзовых
Солдаты бронзовые стоят.
— А ведь это наш бессмертный полк, — сказала Ирина Васильевна. — Сорок восемь человек было в моём классе. С войны вернулись только три мальчика. Три воина-победителя.
Потом Костровой вспомнились строки Юлии Друниной:
Мы стояли у Москвы-реки,
Тёплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел —
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
— Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Миномёты били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот, лежим и мёрзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..
Она читала стихи целый час. И я написала об Ирине Васильевне, её богатой душе и этом концерте — для одного слушателя.
СТОЛЕТИЕ
Ирина Васильевна отметила юбилей в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца. В красивом платье она вышла на сцену под руку с министром культуры Москвы. Тот усадил её в кресло, подошёл к микрофону:
— Я часто ссылаюсь на слова Ирины Васильевны. Как-то её спросили, что она думает о современном театре. Попробуйте ответить на этот вопрос! А Ирина Васильевна сказала: «Артист должен быть виден, слышен и понятен. А сейчас артиста видно, иногда — слышно, почти никогда ничего не понятно».
Ещё одно почётное звание присвоили Ирине Васильевне — заслуженного деятеля искусств Москвы. Её поздравил Президент. Патриарх наградил орденом Святой равноапостольной Ольги.
Министр подарил ей букет из 101 розы. Ведущий вечера Игорь Верник положил цветы к ногам артистки. А потом перенёс к заднику сцены. Там прибавлялись и прибавлялись букеты.
Но одну цветочную композицию Ирина Васильевна не дала унести:
— Нет! Оставьте!
Цветы стояли перед ней, она всё время прикасалась к ним. Любовалась. Вспоминала о чём-то. О ком-то.
Артисты пели. Играли на рояле. А Ирина Васильевна читала и читала стихи:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
«7 дней», Март, 2023
Ирина Кострова: «С ШУРОЙ ШИРВИНДТОМ
МЫ ЕДВА НЕ ЗАМЁРЗЛИ В СТЕПИ»
МЫ ЕДВА НЕ ЗАМЁРЗЛИ В СТЕПИ»

«В «Ленкоме» талант Смоктуновского не оценили — приняли не в труппу, а на договор, с оплатой за выход. А играть особо было нечего. Хорошо ещё, что выделили место на чердаке общежития. Кеша страдал, жаловался: «Где найти правду? Жизнь такая трудная, жестокая…»
Мы с Риммой Марковой наставляли: «Кеша, жизнь — прекрасная! Просто надо уметь за себя бороться! А ты плохо борешься», — вспоминает актриса Ирина Кострова накануне своего 100-летия.
— Ирина Васильевна, 7 апреля в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца состоится концерт в честь Вашего столетия! Шестьдесят лет Вы являетесь артисткой Москонцерта и продолжаете выходить на эстраду. Хотя прежде, чем заняться художественным словом, работали в драматических театрах. Например, в «Ленкоме» — ещё до прихода в него Марка Захарова...
Мы с Риммой Марковой наставляли: «Кеша, жизнь — прекрасная! Просто надо уметь за себя бороться! А ты плохо борешься», — вспоминает актриса Ирина Кострова накануне своего 100-летия.
— Ирина Васильевна, 7 апреля в Дипломатическом зале Кремлёвского дворца состоится концерт в честь Вашего столетия! Шестьдесят лет Вы являетесь артисткой Москонцерта и продолжаете выходить на эстраду. Хотя прежде, чем заняться художественным словом, работали в драматических театрах. Например, в «Ленкоме» — ещё до прихода в него Марка Захарова...
— Как дочь белого офицера, меня много лет не брали ни в один государственный академический московский театр. Но в 1953 году умер Сталин, и у меня появилась надежда... Как раз набор объявил «Ленком». Там я подружилась с Риммой Марковой. Они с братом Леонидом жили в малюсеньком закутке актёрского общежития. Отдельной комнаты не нашлось — для жилья приспособили подсобку. Однако в этой комнатушке сложился настоящий актёрский салон. У Марковых можно было встретить и Николая Сличенко, и Владимира Трошина, и Шуру Ширвиндта, и Кешу Смоктуновского. Шура и Кеша тоже работали тогда в нашем театре. Кстати, именно Римма Маркова организовала переезд Смоктуновского в Москву. Ей удалось уговорить Софью Гиацинтову пригласить в театр никому не известного провинциального актера, игравшего в театрах Грозного, Махачкалы, Сталинграда. Просто однажды Римма увидела Смоктуновского в роли Хлестакова и была так восхищена, что решила помочь самородку.
Однако в «Ленкоме» его талант не оценили — приняли не в труппу, а на договор, с оплатой за выход. А играть особо было нечего, на достойные роли Смоктуновского не назначали. Хорошо ещё, что выделили место на чердаке общежития. С кино тоже не складывалось. Кеша начал сниматься у Пырьева, но умудрился поссориться с режиссёром. И Иван Александрович, директор «Мосфильма», пообещал, что ноги Смоктуновского на киностудии не будет. Кеша страдал, жаловался: «Где найти правду? Жизнь такая трудная, жестокая…» Мы с Риммой наставляли: «Кеша, жизнь — прекрасная! Просто надо уметь за себя бороться! А ты плохо борешься». Из «Ленкома» Смоктуновский ушёл.
Снимаясь в Ленинграде, познакомился с Евгением Лебедевым. Тот порекомендовал его Товстоногову. И Георгий Александрович пригласил Смоктуновского в БДТ, поставил на него «Идиота». Кеша влюбился в пьесу, в своего героя, всё время твердил: «Это моя роль! Моя!» Премьера совпала с гастролями «Ленкома» в Ленинграде. Конечно, весь наш коллектив пошёл смотреть спектакль со Смоктуновским. Выходят солидные известные артисты, загримированные, самоуверенные. И вдруг появляется наш Кеша, фактически без грима, смотрит на публику своими чудесными глазками — ну истинный Идиот. Зал на поклонах неистовствовал: «Смоктуновский! Смоктуновский!» Родилась звезда! Мы все бросились за кулисы поздравлять его. Сергей Майоров стал уговаривать: «Кеша, прошу, вернись в театр!» Но Смоктуновский с достоинством ответил: «Нет!»
На другой день мы, гастролёры, на сцене БДТ играли спектакль «Ленкома» «Когда цветёт акация». Мы ненавидели эту пьесу, потому что практически всю труппу заставляли играть в массовке. Нам бы вечером по Ленинграду погулять, а надо быть в театре. В общем, идёт спектакль, на сцене двухэтажная декорация. Начинается массовая сцена на втором этаже, и вдруг по лестнице к нам, по старой памяти, поднимается Смоктуновский, зрители узнают вчерашнего триумфатора, и зал взрывается аплодисментами!
— Вы сейчас рассказываете про такой «Ленком», какой уже мало кто помнит. В то время там работали Александр Ширвиндт, который сегодня ассоциируется у зрителей исключительно с Театром сатиры. Вы играли вместе?
— Конечно. С Ширвиндтом нам даже довелось побывать на целине. Сцену из «Сирано де Бержерака» в концертном варианте играли в лютый мороз буквально в поле. И всё могло закончиться для нас плохо. Хотя Шура, как всегда, остроумно вспоминает о той поездке: «Профсоюзную организацию «Ленкома» в те годы возглавлял Борис Фёдорович Ульянов — человек круглосуточного патриотизма и наивной, но всепоглощающей тщеславности. Он организовывал все шефские концерты театра. Играли эти концерты везде — от близлежащих поликлиник до отдалённых воинских частей.
Мы, молодые артисты, всегда с воодушевлением откликались на призывы Б. Ф., зная, что на любом концерте после заключительных слов руководителя: «Дорогие солдаты (врачи, ремонтники, комсомольцы и т. д.), служите спокойно! Знайте, что за вашей спиной стоит многомиллионная армия советских артистов!» — последует угощение, а в случае воинской части — даже обед. Итак, однажды в феврале актёрская бригада «Ленкома» вызвалась (в лице, естественно, Б. Ф.) поехать в Кустанайский край на обслуживание целинников. Такой заявки даже обезумевшие от призывов «Все на целину!» работники ЦК ВЛКСМ не ожидали и мягко намекнули нашему предводителю, что порыв сам по себе прекрасен, но возможны неожиданности, ибо в феврале там вьюга, снег, мороз минус 30—40°. Никто не пашет — целинники сидят в землянках и бараках, пытаясь согреться чем бог послал... Б. Ф. был неумолим, и, невзирая на возможность летального исхода, мы полетели в Кустанай. Не буду подробно описывать гастрольный маршрут — скажу только, что два раза при перелётах мы были на краю гибели, а однажды, разминувшись со встречающими нас тракторами, стали замерзать посреди степи.
«Газик», в котором мы коченели, был населён тихо поскуливавшей актрисой Ириной Костровой, тенором Владимиром Трощинским, завёрнутым с ног до головы в огромный шарф и всё время проверяющим голос — как будто надеялся, что у Царских врат ему придется петь «Ландыши» — пик его гастрольного репертуара. Был ещё водитель Лёша — рыжий гигант комсомолец в драном меховом полушубке на голой рыжей волосатой груди. Матерился он мало, старался казаться спокойным, но, когда бензин кончился (а двигатель работал, чтобы не замёрзла вода в радиаторе и что-то типа теплого воздуха дуло в «салон»), он выполз на снег, спустил воду из радиатора, влез обратно и сказал: «Всё! Конец!» Кострова зарыдала, Трощинский перестал петь «Ландыши»… Мы выжили случайно — на нас буквально натолкнулись два поисковых трактора, доволокли до Кустаная, где нас встретили как папанинцев…»
Смех смехом, но мы действительно были на волосок от гибели. Пока дождались помощи, чуть не окоченели. Какое-то время грелись водкой — у кого-то нашлась фляжка, но она быстро закончилась. На самом деле это Шура нас спас — именно он вышел в степь за помощью. За эту поездку нас наградили медалями ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель».
Да, это был совсем другой «Ленком». Устраиваясь, я рассчитывала на серьёзную работу, хороших режиссеров, классический репертуар. Но была очень разочарована. Не в то время я туда попала, театр переживал кризис. После смерти в 1951 году худрука — легендарного артиста Ивана Берсенева — «Ленком» лихорадило. Не было уверенного руководителя, менялись главные режиссёры, одно время театром управлял худсовет, возглавляемый вдовой Берсенева Софьей Гиацинтовой.
В середине 50-х худруком был назначен режиссёр Сергей Майоров. Но и ему возродить театр не удалось. Зрители ходили в «Ленком» неохотно. Майоров ставил, в основном, советские пьесы, да и не был он интересным режиссёром. Не проработав и десяти лет, я решила уйти. Разочарование постигло не одну меня: из театра ушли Гиацинтова и Бирман, Марковы, Михаил Пуговкин… И снова процитирую Ширвиндта: «Сергей Майоров ставил «Хлеб и розы» Салынского, там среди действующих лиц было много ходоков из деревни, большевиков. Мужчин в труппе не хватало, поэтому Майоров одевал в шинели актрис, и они стояли с наклеенными усами. Он всех называл Васями, кричал на репетиции: «Вася, ближе к Васе, ещё ближе к Васе». Михаил Пуговкин — в то время кинозвезда— играл в этом спектакле роль какого-то сибирского парубка, недовольного приходом большевиков. На «Васю» Пуговкин решительно отказывался реагировать. «Ну ладно, ладно», — соглашался Майоров и через минуту снова: «Вася, ты…» — «Если ещё раз скажете «Вася», — предупредил Пуговкин, — уйду из театра». И действительно ушёл».
А я ушла в Москонцерт, и верна ему по сей день, уже 60 лет.
— А как Вы туда попали?
— Я ещё работала в «Ленкоме», когда мой товарищ артист Николай Иванцов попросил помочь ему показаться в Москонцерт. Требовалось подыграть в отрывке из «Укрощения строптивой». Я нехотя согласилась. Меня этот показ ни к чему не обязывал, и я исправно подавала свои реплики перед москонцертовской комиссией. А коллега страшно нервничал. В итоге его не приняли, но пригласили меня. Я давно планировала уходить из «Ленкома» и приняла предложение. Тем более что в Москонцерте уже служил мой муж Анатолий Свенцицкий. Как драматическую актрису, меня оформили в Отдел сатиры и юмора. Здесь работали блистательные артисты, у которых я тоже училась. Стояла за кулисами и смотрела, как они существуют на эстраде. С Москонцертом, Росконцертом, Госконцертом, Союзконцертом я объехала все союзные республики не по одному разу. Была в самых удалённых уголках страны, от Калининграда до Сахалина, даже за полярным кругом!
— Поделитесь самыми яркими гастрольными впечатлениями?
— Их очень много! Например, мне предложили поехать на Северный полюс. В Театре Армии собрали специальную комиссию, которая нас проверяла и готовила. С нас взяли расписку, что мы никому не скажем, где были и что видели. Летели до Тикси, а оттуда артистов доставляли в секретные части на разные острова. Это как в космос слетать — там всё другое. Даже законы притяжения… Летит самолёт, летит, а потом попадает в воздушную яму и мгновенно теряет высоту, падает по вертикали. Все орут, а я наслаждаюсь. Люблю острые ощущения! Я и с парашютом прыгала много раз. На островах мы встречали огромных белых медведей. А однажды показался маленький медвежоночек — такой сказочный… Я немедленно к нему бросилась, а он «дружелюбно» вцепился мне в руку… Чуть не оторвал, спасло утепление, но знатно ободрал.
Помню гастроли в Мурманске. Отмечается праздник, вроде Дня рыбака. В делегации Кобзон, Шульженко, Самойлова… Концерт на открытой площадке, а идёт проливной дождь. Зрители раскрыли зонтики и сидят, не расходятся — всё-таки приехали московские артисты. А нам надо выступать под ливнем… Выходит Татьяна Самойлова, начинает рассказывать, как она снималась в «Летят журавли». Репертуара у неё не было — она не пела, не читала. Вдруг из зала кто-то кричит: «Это мы знаем. Ты нам почитай стихи!» Она говорит: «Сейчас, минуточку...» Уходит за кулисы и выталкивает меня! А у меня специально для этого концерта были подготовлены стихи Тихонова «Рыбачка»…
На гастроли в Армению меня отправили, когда там случилось страшное землетрясение. Приезжаю в Спитак — половины города нет. Мне говорят: «Какой концерт?! Можете ехать домой». Отвечаю: «Нет, раз уж приехала, буду вам помогать». В Спитаке задержалась довольно надолго. Гостиницы тоже не было — ушла под землю. И меня разместили в доме у какой-то молодой семейной пары. Мы подружились — они потом ко мне в Москву приезжали. Я как волонтёр помогала разбирать завалы, выполняла любую другую работу, которую поручали, хотелось быть полезной людям в такой чудовищной ситуации. Потом мне даже грамоту какую-то дали. За сто лет у меня их собралось бессчётное количество... На следующий год я снова приехала в Армению и уже выступила с программой.
Ещё стоит рассказать про гастроли в Минске. Приезжаю в гостиницу, передо мной в очереди на заселение стоит человек. Его спрашивают: «Фамилия?» —«Рихтер». Боже, думаю, я стою за самим Рихтером! Однако администраторша самым неприветливым тоном ему отвечает: «Рихтер? Нет таких. Отойдите, товарищ». Он говорит: «Я не могу отойти, я к вам на гастроли приехал, у меня здесь в зале филармонии концерт. И мне перед выступлением надо поспать!» — «Какой еще концерт?! Ничего не знаю. У нас нет заявки ни на какого Рихтера. Не мешайте работать». Я думаю: наконец-то схожу на его концерт, в Москве всё время некогда… А Рихтер тем временем отошёл, сел на лавочку. А мне без заминок выдали ключи от номера. Поднялась — прекрасная комната. Думаю: что же это за несправедливость? Внизу Рихтер сидит неприкаянный, а мне сразу все оформили. Надо уступить ему своё место! Спускаюсь, а его на лавочке уже нет. «Уехал, — говорят, — в Москву».
В Минске моя старая знакомая, концертный администратор, предложила: «Ирина, у тебя концерт завтра вечером. А днём просят выступить на заводе по производству удобрений — огромное предприятие — обеспечивает всю Сибирь». — «Конечно, выступлю», — говорю. В 8 утра выхожу к микроавтобусу, в него загрузилась ещё и японская делегация — приехали смотреть завод. На проходной предприятия японцы замечают стенд с портретами каких-то людей: лица серьёзные, сытые, как у членов Политбюро. Японцы спрашивают переводчика: «А это кто?» —«Это наши ударники, передовики производства — те, кто хорошо работает». —«А что, все остальные плохо работают?» Выступление на заводе прошло замечательно, не зря я всю ночь готовилась, глаз почти не сомкнула, подбирала репертуар для рабочих. Вечером в филармонии меня встречает радостный директор: «Ой, Ирина Васильевна, как я рад вас видеть! Кострова — всегда аншлаг! А то пришлют какого-то Рихтера — одни убытки…» (Смеётся.)
— Ирина Васильевна, Вы родились в Москве в 1923 году. Какая она была — Москва Вашего детства?
— Я девочка арбатская. Родилась в коммунальной квартире, на улице Вахтангова, и прожила там полжизни. Дом наш до сих пор стоит, улица теперь называется Большой Николопесковский переулок. Одной стороной он выходит на Старый Арбат, а другой — на Собачью площадку. Сейчас, когда я произношу это название, никто не понимает. Но мы, довоенные подростки, это место хорошо знали. Рядом была наша школа номер 93. Она и сейчас принимает учеников. Самой не верится, но я родилась ещё при Ленине. Тогда по Арбату ходили трамваи. Все бросались на них, висели на ступеньках, сидели на крышах. Кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади казался нам чудом. При мне появилось первое метро. Помню, как в 1930 году в Москву прилетел немецкий цеппелин… Даже радио ещё воспринималось как чудо техники. В школе девчонкой я играла старуху, которая уснула на двести лет. А потом её разбудили, и она кричит: «Глашка, Лушка, Наташка, почешите мне пятки!» Тут начинает играть радио, и она: «Чур меня, чур!» Представляете, с каким чувством я сегодня смотрю на современные гаджеты?
В классе нас училось 48 человек. Было много всяких кружков, в том числе драматический. Мы его посещали с одноклассницей Алкой Парфаньяк. Вместе играли в спектакле по только что написанной (в 1938 году) пьесе Арбузова «Таня». Мне давали преимущественно драматические роли, Алле — лирические. Красавицей Парфаньяк была необыкновенной. В нашей школе многие мальчики по ней сохли. Она стала киноактрисой, вышла замуж за Николая Крючкова, потом за Михаила Ульянова. Другой мой одноклассник Вадим Коростелёв стал известным писателем, поэтом и драматургом. Именно он написал тексты к бессмертным хитам из «Карнавальной ночи». Мне довелось играть в его популярной пьесе «Димка-невидимка» — она тогда ставилась по всей стране. Я с детства мечтала стать артисткой. Дома был старый сундук, из которого я доставала мамины платья и наряжалась. Танцевала или забиралась на деревянную спинку кровати и часами что-то декламировала. Долго это никто не выдерживал, и «зрители» расходились. Только наш пёс Джоник сидел и слушал меня внимательно.
— Кем были Ваши родители?
— У меня дворянские корни. Папа Василий Никитич окончил инженерное училище в Санкт-Петербурге. Воевал на фронтах Первой мировой. Был награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Александра Невского. Конечно, нелегко ему приходилось в советские годы. Он был востребованным специалистом в своей сфере — первоклассным конструктором и инженером. Но его всё время хотели посадить. Помню, как он дома плакал, переживая всё это. Чтобы избежать репрессий, нам часто приходилось переезжать. Так что «гастролирую» я с детства. Добрые люди предупреждали отца: «Сегодня ночью тебя придут арестовывать». Мы быстро срывались с места и уезжали в самые глухие места: то на Кольский полуостров, то в Мончегорск. В таких городках бывали, что и названий не вспомнить. Но всегда возвращались в Москву, в нашу квартиру. А бабушка моя по маминой линии, Стефания Карловна Суховецкая-Исполатова, была известной художницей, даже в Третьяковке выставлялась. Она полька, так что мои анкетные данные — хуже некуда. Бабушка переписывалась со Львом Толстым и другими выдающимися современниками. Мама Татьяна Михайловна тоже была художницей, но прожить на это не могла и в годы войны научилась выжигать по бархату. Мы продавали её изделия на рынке, и это было хоть каким-то подспорьем.
— К началу войны Вы окончили школу…
— Да, наш выпускной бал состоялся 21 июня! Это был замечательный праздник, все веселились и чувствовали себя такими счастливыми —начиналась взрослая жизнь! К ночи пошли танцевать на Красную площадь, на Васильевский спуск. Расходились на рассвете. Меня провожал Фима Борок, который был в меня влюблён. Мы шли вдоль Москвы-реки, делились планами, мечтами. Я читала ему стихи... Он мог бы стать большим учёным, потому что был очень умным, начитанным, содержательным парнем. Но погиб в первые дни войны — записался на фронт добровольцем. Вообще, весь мой класс побежал 22 июня записываться в военкомат. С фронта вернулось лишь три парня… А родители Фимы до конца своих дней ходили на все мои концерты. Для них я так и осталась его невестой. Хотя мы с Фимой даже ни разу не поцеловались — были целомудренными подростками…
Вскоре предприятие отца эвакуировали. Родители уехали, а я осталась в Москве. Сказала: «Пускай я умру, но никуда не уеду». Наивная, решила поступать в театральное… Прибегаю в одно училище — закрыто, эвакуировалось. В другое — набора нет, готовится к эвакуации. Что делать? Добровольцем на фронт не берут — слишком молодая. Пошла работать на шинный завод на Таганке. Потом меня командировали копать окопы под Москвой. Немец наступал стремительно. Зима была страшно холодной, и я обморозила ноги — началась гангрена. Дело шло к ампутации, но попался хороший внимательный доктор — вылечил. Мне предложили окончить курсы медсестёр. Учёба была очень тяжёлой. В душном подвале мы препарировали вшивые трупы. Чтобы как-то притупить обоняние, я научилась курить… Курсы окончила на отлично. Одной в Москве оставаться было тяжело, и я отправилась в Ульяновск, куда эвакуировали предприятие отца. Папа меня встретил на вокзале и сразу сказал: «Тебя тут уже ждут — пришла заявка из госпиталя». У меня столько «треугольничков» с той поры осталось — писали благодарные больные, те, кому нам удалось помочь…Но мечта об актёрстве продолжала манить. По ночам снилась любимая Москва. Ночью, когда все спали, я ушла на вокзал. Оставила записку: «Уехала учиться в Москву. Простите, дорогие родители». Вот как я собиралась попасть на поезд, чтобы добраться до Москвы?! Даже людям военным, даже со спецдокументами это было безумно сложно. И вот я, наивная глупая девочка, стою на вокзале и думаю: всё равно поеду в Москву учиться! И, как по волшебству, возле меня вдруг притормозил какой-то товарняк. Я потянула дверь вагона и прошмыгнула внутрь. А там — танк! С ним и поехала. Обнаружили меня лишь в Муроме и сняли с поезда. Кое-как добралась до Москвы. Приезжаю домой на Арбат, а наша квартира занята. В обеих наших комнатах поселили семьи военных. У них уже и документы на нашу квартиру есть, так что меня не пускают. А я сказала: «Нет, я буду тут жить! Это наша квартира! Вот наш сундук в коридоре — буду на нём спать!» И осталась.
Осенью 1942-го я вновь побежала искать театральное училище. Может, кто вернулся из эвакуации? И действительно, за время моего отсутствия в Москве на базе ГИТИСа организовали Городское театральное училище. В него я и поступила. Я была такая бедная, вы не можете себе представить. Одно ситцевое платье и тапочки на босу ногу. Родители помочь ничем не могли. Педагоги меня любили. Наш мастер Владимир Готовцев в дипломной постановке «Гроза» дал мне роль Катерины, а замечательный театральный педагог Николай Свободин поставил Шекспира «Конец — всему делу венец» и тоже дал мне главную роль. И третий мой дипломный спектакль —«Живой труп», я играла цыганку Машу.
Будущее представлялось самым светлым. Война позади, в Москву вернулись родители, наши арбатские комнаты я отвоевала, у меня успех в дипломных спектаклях и приглашения в несколько ведущих московских театров: Пушкина, Малый, Маяковку… Но все мечты разбились об анкетные данные. Я честно писала: «Отец — бывший белогвардеец, бабушка — полька…» Такие документы мне возвращали из отдела кадров, и худруки, которые меня приглашали, ничего не могли сделать. Счастье быстро сменилось отчаянием. Я даже хотела свести счеты с жизнью. Спасла мама: будто что-то почувствовав, пришла ко мне в комнату в ту роковую ночь. Потом я устроилась домработницей. На досуге позвонила во Второй армейский театр — был и такой. И художественный руководитель Виктор Громов — актёр второго МХАТа — меня принял и отстоял. Он меня обожал — давал главные роли. А потом меня пригласила Мария Осиповна Кнебель в свой театр Центрального дома культуры железнодорожников. Великий педагог и режиссёр, она организовала замечательный театр.
Репертуар был прекрасный, и ролями своими я гордилась. У труппы имелся собственный вагон, в котором мы переезжали из города в город. На гастролях жили в этом вагоне. Поехали мы на гастроли в Вильнюс. Обычно никого из чужих в нашем поезде не было. Но в тот раз на обратном пути что-то сломалось, и наш вагон прицепили к другому составу. К нам зачастил молодой человек. Всё хвастался, какой он артист. Оказалось, что Анатолий Свенцицкий когда-то работал в Малом театре в Москве, был любимцем режиссеров Зубова и Царёва, но ушёл, когда у него обострился тромбофлебит. Несколько лет он был ведущим артистом в театре Вильнюса, но теперь возвращался в Москву, где у него остались родители. Так мы и познакомились. Во время остановки в Смоленске вышли из поезда. Темнота, фонарей почти нет. Я тогда сказала: «Господи, кто же тут живёт? Надеюсь, я никогда не буду в провинции работать». А в Москве я стала получать от Толи письма. Однажды он написал: «Уехал работать в Смоленск. Приезжайте к нам, у нас нет героини…» Я всё бросила и уехала к нему. За один сезон сыграла 12 главных ролей. Все центральные женские роли играла я, а мужские — Толя. Но всё же мне хотелось в стационарный театр в Москву. И я решила: уеду. Никто в это не верил, а Свенцицкий особенно. Был у нас спектакль «Голос Америки», у меня — главная роль. Третий звонок, а актрисы в грим-уборной нет. Просто я уехала в Москву, оставив записку: «Толик, милый, прости…» Мы тогда ещё не были близки, хотя все считали, что мы в супружеских отношениях. Расписались мы только в 70-х. Ради меня Анатолий бросил Смоленск. Конечно, был грандиозный скандал: два ведущих артиста уволились. В Москве он переехал ко мне в шестиметровую комнатку в коммуналке.
— Откуда Вы со временем перебрались в легендарную сталинскую высотку на Котельнической набережной и уже много лет там живёте. Вашими соседками были Клара Лучко, Лидия Смирнова, Галина Уланова, Людмила Зыкина, Марина Ладынина. С кем из них Вы общались?
— С Людмилой Зыкиной на Котельнической мы практически не виделись. Зато нередко встречались за кулисами на гастролях. С Галиной Улановой мы сталкивались то в подъезде, то в парикмахерской. Но она была неразговорчивая, с ней просто так не поболтаешь, на лавочке она сидеть не стала бы. А в доме была традиция: пожилые артисты в хорошую погоду собирались на лавочках возле центрального подъезда. Там и Раневская нередко прогуливалась.
Садик у нас есть при доме, мы там и в шахматы играли, и чай пили. Все интересовались друг другом. Я, когда готовила новую программу, обязательно апробировала её на соседях. Собирала местный «худсовет» — Ладынину, Смирнову, Мансурову (она, правда, в нашем доме не жила) — и читала им стихи. Ну а они, в свою очередь, советовались со мной по творческим вопросам. Особенно если дело касалось поэзии. Я живу на 12-м этаже. Лидия Смирнова жила надо мной, а Марина Ладынина — на втором или третьем. Она без конца по поводу и без ходила к нам с Толей в гости. Ей очень нравилось расположение нашей квартиры, и она уговаривала нас поменяться. Но мы, конечно, не согласились. У нас небо за окном — окна на три стороны. Кстати, в нашу высотку Ладынина переехала после расставания с Пырьевым, следовательно, в кино уже не снималась. Выручали творческие вечера, на которых она общалась со зрителями, пела. Потом Ладынина решила сделать программу по Ахматовой. Загорелась этим, наблюдая наши с Толей репетиции. И мой муж помог ей всё подготовить.
Больше всех на свете я люблю моего Толю. Для меня это самый главный человек в жизни, я и сейчас с ним часто разговариваю. Только теперь — мысленно. Он был истинным аристократом, очень образованным человеком — увлёк меня поэзией, научил видеть литературу. Толя меня приучил: чтобы не выпасть из профессии, нужно всё время готовить новые программы, чем я до сих пор и занимаюсь. И по сей день учусь — даже у телевизора, глядя на хороших артистов.
— Ирина Васильевна, все Ваши мучения и труды не прошли даром — Вы стали ведущей артисткой Москонцерта, признанным мастером художественного слова. Работали и работаете на главных площадках России и за рубежом, создали около 30 моноспектаклей. Публика Вас любит — одна на сцене Вы держите внимание зала на протяжении трёх часов! В советские годы Вам одной из немногих разрешали читать поэтов Серебряного века, в том числе опальную Анну Ахматову, шестидесятников— Вознесенского, Евтушенко…
— Да, когда читала шестидесятников, билеты на эти концерты достать было невозможно. В своё время мы с Толей подготовили программу по Ахматовой «Исповедь сердца», но руководство Москонцерта её, конечно, не утвердило. Тогда мы пошли в Министерство культуры и представили программу там. Члены комиссии утвердили её единогласно! Это была наша любимая с Толей постановка. Сегодня посмотреть и послушать её можно на моем сайте. Шло время, менялись приоритеты и линия партии. В соответствии с этим практически ежегодно я готовила новые моноспектакли.
Большая дружба связывала меня с советским поэтом Николаем Тихоновым — ему очень нравилась моя программа на его стихи. Было время, когда стали уделять особое внимание культуре регионов. Я подготовила несколько программ по творчеству поэтов Кабардино-Балкарии и Калмыкии — в какой-то степени открыла этих авторов широкому зрителю. Один из моноспектаклей мы назвали «Сердце гор» — несколько раз поднимались с мужем на Эльбрус и влюбились в эти места.
Благодаря Москонцерту я имею возможность выходить на сцену. У меня и 27 марта встреча со зрителями, и 7 апреля юбилейный вечер в Кремлёвском дворце. Очень рада, что в моей жизни больше десяти лет назад появились друзья в лице волонтёров и учредителей благотворительного фонда «Артист» (эта организация поддерживает артистов, режиссёров, гримёров и других деятелей искусства старшего поколения). Я охотно участвую в проектах фонда. Обожаю его учредителей: Женю Миронова, Машу Миронову, Игоря Верника. Кстати, Игорь будет вести мой юбилей в Кремле.
— Вы сами себе не удивляетесь? В сто лет оставаться в такой прекрасной физической и творческой форме! Чем Вы это объясняете?
— Я ем сколько хочу, но почему-то не толстею. Правда, утром делаю зарядку, но больше ничего. Неуспокоенность и жажда творчества —вот мой секрет.
Павел СОСЕДОВ
Однако в «Ленкоме» его талант не оценили — приняли не в труппу, а на договор, с оплатой за выход. А играть особо было нечего, на достойные роли Смоктуновского не назначали. Хорошо ещё, что выделили место на чердаке общежития. С кино тоже не складывалось. Кеша начал сниматься у Пырьева, но умудрился поссориться с режиссёром. И Иван Александрович, директор «Мосфильма», пообещал, что ноги Смоктуновского на киностудии не будет. Кеша страдал, жаловался: «Где найти правду? Жизнь такая трудная, жестокая…» Мы с Риммой наставляли: «Кеша, жизнь — прекрасная! Просто надо уметь за себя бороться! А ты плохо борешься». Из «Ленкома» Смоктуновский ушёл.
Снимаясь в Ленинграде, познакомился с Евгением Лебедевым. Тот порекомендовал его Товстоногову. И Георгий Александрович пригласил Смоктуновского в БДТ, поставил на него «Идиота». Кеша влюбился в пьесу, в своего героя, всё время твердил: «Это моя роль! Моя!» Премьера совпала с гастролями «Ленкома» в Ленинграде. Конечно, весь наш коллектив пошёл смотреть спектакль со Смоктуновским. Выходят солидные известные артисты, загримированные, самоуверенные. И вдруг появляется наш Кеша, фактически без грима, смотрит на публику своими чудесными глазками — ну истинный Идиот. Зал на поклонах неистовствовал: «Смоктуновский! Смоктуновский!» Родилась звезда! Мы все бросились за кулисы поздравлять его. Сергей Майоров стал уговаривать: «Кеша, прошу, вернись в театр!» Но Смоктуновский с достоинством ответил: «Нет!»
На другой день мы, гастролёры, на сцене БДТ играли спектакль «Ленкома» «Когда цветёт акация». Мы ненавидели эту пьесу, потому что практически всю труппу заставляли играть в массовке. Нам бы вечером по Ленинграду погулять, а надо быть в театре. В общем, идёт спектакль, на сцене двухэтажная декорация. Начинается массовая сцена на втором этаже, и вдруг по лестнице к нам, по старой памяти, поднимается Смоктуновский, зрители узнают вчерашнего триумфатора, и зал взрывается аплодисментами!
— Вы сейчас рассказываете про такой «Ленком», какой уже мало кто помнит. В то время там работали Александр Ширвиндт, который сегодня ассоциируется у зрителей исключительно с Театром сатиры. Вы играли вместе?
— Конечно. С Ширвиндтом нам даже довелось побывать на целине. Сцену из «Сирано де Бержерака» в концертном варианте играли в лютый мороз буквально в поле. И всё могло закончиться для нас плохо. Хотя Шура, как всегда, остроумно вспоминает о той поездке: «Профсоюзную организацию «Ленкома» в те годы возглавлял Борис Фёдорович Ульянов — человек круглосуточного патриотизма и наивной, но всепоглощающей тщеславности. Он организовывал все шефские концерты театра. Играли эти концерты везде — от близлежащих поликлиник до отдалённых воинских частей.
Мы, молодые артисты, всегда с воодушевлением откликались на призывы Б. Ф., зная, что на любом концерте после заключительных слов руководителя: «Дорогие солдаты (врачи, ремонтники, комсомольцы и т. д.), служите спокойно! Знайте, что за вашей спиной стоит многомиллионная армия советских артистов!» — последует угощение, а в случае воинской части — даже обед. Итак, однажды в феврале актёрская бригада «Ленкома» вызвалась (в лице, естественно, Б. Ф.) поехать в Кустанайский край на обслуживание целинников. Такой заявки даже обезумевшие от призывов «Все на целину!» работники ЦК ВЛКСМ не ожидали и мягко намекнули нашему предводителю, что порыв сам по себе прекрасен, но возможны неожиданности, ибо в феврале там вьюга, снег, мороз минус 30—40°. Никто не пашет — целинники сидят в землянках и бараках, пытаясь согреться чем бог послал... Б. Ф. был неумолим, и, невзирая на возможность летального исхода, мы полетели в Кустанай. Не буду подробно описывать гастрольный маршрут — скажу только, что два раза при перелётах мы были на краю гибели, а однажды, разминувшись со встречающими нас тракторами, стали замерзать посреди степи.
«Газик», в котором мы коченели, был населён тихо поскуливавшей актрисой Ириной Костровой, тенором Владимиром Трощинским, завёрнутым с ног до головы в огромный шарф и всё время проверяющим голос — как будто надеялся, что у Царских врат ему придется петь «Ландыши» — пик его гастрольного репертуара. Был ещё водитель Лёша — рыжий гигант комсомолец в драном меховом полушубке на голой рыжей волосатой груди. Матерился он мало, старался казаться спокойным, но, когда бензин кончился (а двигатель работал, чтобы не замёрзла вода в радиаторе и что-то типа теплого воздуха дуло в «салон»), он выполз на снег, спустил воду из радиатора, влез обратно и сказал: «Всё! Конец!» Кострова зарыдала, Трощинский перестал петь «Ландыши»… Мы выжили случайно — на нас буквально натолкнулись два поисковых трактора, доволокли до Кустаная, где нас встретили как папанинцев…»
Смех смехом, но мы действительно были на волосок от гибели. Пока дождались помощи, чуть не окоченели. Какое-то время грелись водкой — у кого-то нашлась фляжка, но она быстро закончилась. На самом деле это Шура нас спас — именно он вышел в степь за помощью. За эту поездку нас наградили медалями ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель».
Да, это был совсем другой «Ленком». Устраиваясь, я рассчитывала на серьёзную работу, хороших режиссеров, классический репертуар. Но была очень разочарована. Не в то время я туда попала, театр переживал кризис. После смерти в 1951 году худрука — легендарного артиста Ивана Берсенева — «Ленком» лихорадило. Не было уверенного руководителя, менялись главные режиссёры, одно время театром управлял худсовет, возглавляемый вдовой Берсенева Софьей Гиацинтовой.
В середине 50-х худруком был назначен режиссёр Сергей Майоров. Но и ему возродить театр не удалось. Зрители ходили в «Ленком» неохотно. Майоров ставил, в основном, советские пьесы, да и не был он интересным режиссёром. Не проработав и десяти лет, я решила уйти. Разочарование постигло не одну меня: из театра ушли Гиацинтова и Бирман, Марковы, Михаил Пуговкин… И снова процитирую Ширвиндта: «Сергей Майоров ставил «Хлеб и розы» Салынского, там среди действующих лиц было много ходоков из деревни, большевиков. Мужчин в труппе не хватало, поэтому Майоров одевал в шинели актрис, и они стояли с наклеенными усами. Он всех называл Васями, кричал на репетиции: «Вася, ближе к Васе, ещё ближе к Васе». Михаил Пуговкин — в то время кинозвезда— играл в этом спектакле роль какого-то сибирского парубка, недовольного приходом большевиков. На «Васю» Пуговкин решительно отказывался реагировать. «Ну ладно, ладно», — соглашался Майоров и через минуту снова: «Вася, ты…» — «Если ещё раз скажете «Вася», — предупредил Пуговкин, — уйду из театра». И действительно ушёл».
А я ушла в Москонцерт, и верна ему по сей день, уже 60 лет.
— А как Вы туда попали?
— Я ещё работала в «Ленкоме», когда мой товарищ артист Николай Иванцов попросил помочь ему показаться в Москонцерт. Требовалось подыграть в отрывке из «Укрощения строптивой». Я нехотя согласилась. Меня этот показ ни к чему не обязывал, и я исправно подавала свои реплики перед москонцертовской комиссией. А коллега страшно нервничал. В итоге его не приняли, но пригласили меня. Я давно планировала уходить из «Ленкома» и приняла предложение. Тем более что в Москонцерте уже служил мой муж Анатолий Свенцицкий. Как драматическую актрису, меня оформили в Отдел сатиры и юмора. Здесь работали блистательные артисты, у которых я тоже училась. Стояла за кулисами и смотрела, как они существуют на эстраде. С Москонцертом, Росконцертом, Госконцертом, Союзконцертом я объехала все союзные республики не по одному разу. Была в самых удалённых уголках страны, от Калининграда до Сахалина, даже за полярным кругом!
— Поделитесь самыми яркими гастрольными впечатлениями?
— Их очень много! Например, мне предложили поехать на Северный полюс. В Театре Армии собрали специальную комиссию, которая нас проверяла и готовила. С нас взяли расписку, что мы никому не скажем, где были и что видели. Летели до Тикси, а оттуда артистов доставляли в секретные части на разные острова. Это как в космос слетать — там всё другое. Даже законы притяжения… Летит самолёт, летит, а потом попадает в воздушную яму и мгновенно теряет высоту, падает по вертикали. Все орут, а я наслаждаюсь. Люблю острые ощущения! Я и с парашютом прыгала много раз. На островах мы встречали огромных белых медведей. А однажды показался маленький медвежоночек — такой сказочный… Я немедленно к нему бросилась, а он «дружелюбно» вцепился мне в руку… Чуть не оторвал, спасло утепление, но знатно ободрал.
Помню гастроли в Мурманске. Отмечается праздник, вроде Дня рыбака. В делегации Кобзон, Шульженко, Самойлова… Концерт на открытой площадке, а идёт проливной дождь. Зрители раскрыли зонтики и сидят, не расходятся — всё-таки приехали московские артисты. А нам надо выступать под ливнем… Выходит Татьяна Самойлова, начинает рассказывать, как она снималась в «Летят журавли». Репертуара у неё не было — она не пела, не читала. Вдруг из зала кто-то кричит: «Это мы знаем. Ты нам почитай стихи!» Она говорит: «Сейчас, минуточку...» Уходит за кулисы и выталкивает меня! А у меня специально для этого концерта были подготовлены стихи Тихонова «Рыбачка»…
На гастроли в Армению меня отправили, когда там случилось страшное землетрясение. Приезжаю в Спитак — половины города нет. Мне говорят: «Какой концерт?! Можете ехать домой». Отвечаю: «Нет, раз уж приехала, буду вам помогать». В Спитаке задержалась довольно надолго. Гостиницы тоже не было — ушла под землю. И меня разместили в доме у какой-то молодой семейной пары. Мы подружились — они потом ко мне в Москву приезжали. Я как волонтёр помогала разбирать завалы, выполняла любую другую работу, которую поручали, хотелось быть полезной людям в такой чудовищной ситуации. Потом мне даже грамоту какую-то дали. За сто лет у меня их собралось бессчётное количество... На следующий год я снова приехала в Армению и уже выступила с программой.
Ещё стоит рассказать про гастроли в Минске. Приезжаю в гостиницу, передо мной в очереди на заселение стоит человек. Его спрашивают: «Фамилия?» —«Рихтер». Боже, думаю, я стою за самим Рихтером! Однако администраторша самым неприветливым тоном ему отвечает: «Рихтер? Нет таких. Отойдите, товарищ». Он говорит: «Я не могу отойти, я к вам на гастроли приехал, у меня здесь в зале филармонии концерт. И мне перед выступлением надо поспать!» — «Какой еще концерт?! Ничего не знаю. У нас нет заявки ни на какого Рихтера. Не мешайте работать». Я думаю: наконец-то схожу на его концерт, в Москве всё время некогда… А Рихтер тем временем отошёл, сел на лавочку. А мне без заминок выдали ключи от номера. Поднялась — прекрасная комната. Думаю: что же это за несправедливость? Внизу Рихтер сидит неприкаянный, а мне сразу все оформили. Надо уступить ему своё место! Спускаюсь, а его на лавочке уже нет. «Уехал, — говорят, — в Москву».
В Минске моя старая знакомая, концертный администратор, предложила: «Ирина, у тебя концерт завтра вечером. А днём просят выступить на заводе по производству удобрений — огромное предприятие — обеспечивает всю Сибирь». — «Конечно, выступлю», — говорю. В 8 утра выхожу к микроавтобусу, в него загрузилась ещё и японская делегация — приехали смотреть завод. На проходной предприятия японцы замечают стенд с портретами каких-то людей: лица серьёзные, сытые, как у членов Политбюро. Японцы спрашивают переводчика: «А это кто?» —«Это наши ударники, передовики производства — те, кто хорошо работает». —«А что, все остальные плохо работают?» Выступление на заводе прошло замечательно, не зря я всю ночь готовилась, глаз почти не сомкнула, подбирала репертуар для рабочих. Вечером в филармонии меня встречает радостный директор: «Ой, Ирина Васильевна, как я рад вас видеть! Кострова — всегда аншлаг! А то пришлют какого-то Рихтера — одни убытки…» (Смеётся.)
— Ирина Васильевна, Вы родились в Москве в 1923 году. Какая она была — Москва Вашего детства?
— Я девочка арбатская. Родилась в коммунальной квартире, на улице Вахтангова, и прожила там полжизни. Дом наш до сих пор стоит, улица теперь называется Большой Николопесковский переулок. Одной стороной он выходит на Старый Арбат, а другой — на Собачью площадку. Сейчас, когда я произношу это название, никто не понимает. Но мы, довоенные подростки, это место хорошо знали. Рядом была наша школа номер 93. Она и сейчас принимает учеников. Самой не верится, но я родилась ещё при Ленине. Тогда по Арбату ходили трамваи. Все бросались на них, висели на ступеньках, сидели на крышах. Кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади казался нам чудом. При мне появилось первое метро. Помню, как в 1930 году в Москву прилетел немецкий цеппелин… Даже радио ещё воспринималось как чудо техники. В школе девчонкой я играла старуху, которая уснула на двести лет. А потом её разбудили, и она кричит: «Глашка, Лушка, Наташка, почешите мне пятки!» Тут начинает играть радио, и она: «Чур меня, чур!» Представляете, с каким чувством я сегодня смотрю на современные гаджеты?
В классе нас училось 48 человек. Было много всяких кружков, в том числе драматический. Мы его посещали с одноклассницей Алкой Парфаньяк. Вместе играли в спектакле по только что написанной (в 1938 году) пьесе Арбузова «Таня». Мне давали преимущественно драматические роли, Алле — лирические. Красавицей Парфаньяк была необыкновенной. В нашей школе многие мальчики по ней сохли. Она стала киноактрисой, вышла замуж за Николая Крючкова, потом за Михаила Ульянова. Другой мой одноклассник Вадим Коростелёв стал известным писателем, поэтом и драматургом. Именно он написал тексты к бессмертным хитам из «Карнавальной ночи». Мне довелось играть в его популярной пьесе «Димка-невидимка» — она тогда ставилась по всей стране. Я с детства мечтала стать артисткой. Дома был старый сундук, из которого я доставала мамины платья и наряжалась. Танцевала или забиралась на деревянную спинку кровати и часами что-то декламировала. Долго это никто не выдерживал, и «зрители» расходились. Только наш пёс Джоник сидел и слушал меня внимательно.
— Кем были Ваши родители?
— У меня дворянские корни. Папа Василий Никитич окончил инженерное училище в Санкт-Петербурге. Воевал на фронтах Первой мировой. Был награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Александра Невского. Конечно, нелегко ему приходилось в советские годы. Он был востребованным специалистом в своей сфере — первоклассным конструктором и инженером. Но его всё время хотели посадить. Помню, как он дома плакал, переживая всё это. Чтобы избежать репрессий, нам часто приходилось переезжать. Так что «гастролирую» я с детства. Добрые люди предупреждали отца: «Сегодня ночью тебя придут арестовывать». Мы быстро срывались с места и уезжали в самые глухие места: то на Кольский полуостров, то в Мончегорск. В таких городках бывали, что и названий не вспомнить. Но всегда возвращались в Москву, в нашу квартиру. А бабушка моя по маминой линии, Стефания Карловна Суховецкая-Исполатова, была известной художницей, даже в Третьяковке выставлялась. Она полька, так что мои анкетные данные — хуже некуда. Бабушка переписывалась со Львом Толстым и другими выдающимися современниками. Мама Татьяна Михайловна тоже была художницей, но прожить на это не могла и в годы войны научилась выжигать по бархату. Мы продавали её изделия на рынке, и это было хоть каким-то подспорьем.
— К началу войны Вы окончили школу…
— Да, наш выпускной бал состоялся 21 июня! Это был замечательный праздник, все веселились и чувствовали себя такими счастливыми —начиналась взрослая жизнь! К ночи пошли танцевать на Красную площадь, на Васильевский спуск. Расходились на рассвете. Меня провожал Фима Борок, который был в меня влюблён. Мы шли вдоль Москвы-реки, делились планами, мечтами. Я читала ему стихи... Он мог бы стать большим учёным, потому что был очень умным, начитанным, содержательным парнем. Но погиб в первые дни войны — записался на фронт добровольцем. Вообще, весь мой класс побежал 22 июня записываться в военкомат. С фронта вернулось лишь три парня… А родители Фимы до конца своих дней ходили на все мои концерты. Для них я так и осталась его невестой. Хотя мы с Фимой даже ни разу не поцеловались — были целомудренными подростками…
Вскоре предприятие отца эвакуировали. Родители уехали, а я осталась в Москве. Сказала: «Пускай я умру, но никуда не уеду». Наивная, решила поступать в театральное… Прибегаю в одно училище — закрыто, эвакуировалось. В другое — набора нет, готовится к эвакуации. Что делать? Добровольцем на фронт не берут — слишком молодая. Пошла работать на шинный завод на Таганке. Потом меня командировали копать окопы под Москвой. Немец наступал стремительно. Зима была страшно холодной, и я обморозила ноги — началась гангрена. Дело шло к ампутации, но попался хороший внимательный доктор — вылечил. Мне предложили окончить курсы медсестёр. Учёба была очень тяжёлой. В душном подвале мы препарировали вшивые трупы. Чтобы как-то притупить обоняние, я научилась курить… Курсы окончила на отлично. Одной в Москве оставаться было тяжело, и я отправилась в Ульяновск, куда эвакуировали предприятие отца. Папа меня встретил на вокзале и сразу сказал: «Тебя тут уже ждут — пришла заявка из госпиталя». У меня столько «треугольничков» с той поры осталось — писали благодарные больные, те, кому нам удалось помочь…Но мечта об актёрстве продолжала манить. По ночам снилась любимая Москва. Ночью, когда все спали, я ушла на вокзал. Оставила записку: «Уехала учиться в Москву. Простите, дорогие родители». Вот как я собиралась попасть на поезд, чтобы добраться до Москвы?! Даже людям военным, даже со спецдокументами это было безумно сложно. И вот я, наивная глупая девочка, стою на вокзале и думаю: всё равно поеду в Москву учиться! И, как по волшебству, возле меня вдруг притормозил какой-то товарняк. Я потянула дверь вагона и прошмыгнула внутрь. А там — танк! С ним и поехала. Обнаружили меня лишь в Муроме и сняли с поезда. Кое-как добралась до Москвы. Приезжаю домой на Арбат, а наша квартира занята. В обеих наших комнатах поселили семьи военных. У них уже и документы на нашу квартиру есть, так что меня не пускают. А я сказала: «Нет, я буду тут жить! Это наша квартира! Вот наш сундук в коридоре — буду на нём спать!» И осталась.
Осенью 1942-го я вновь побежала искать театральное училище. Может, кто вернулся из эвакуации? И действительно, за время моего отсутствия в Москве на базе ГИТИСа организовали Городское театральное училище. В него я и поступила. Я была такая бедная, вы не можете себе представить. Одно ситцевое платье и тапочки на босу ногу. Родители помочь ничем не могли. Педагоги меня любили. Наш мастер Владимир Готовцев в дипломной постановке «Гроза» дал мне роль Катерины, а замечательный театральный педагог Николай Свободин поставил Шекспира «Конец — всему делу венец» и тоже дал мне главную роль. И третий мой дипломный спектакль —«Живой труп», я играла цыганку Машу.
Будущее представлялось самым светлым. Война позади, в Москву вернулись родители, наши арбатские комнаты я отвоевала, у меня успех в дипломных спектаклях и приглашения в несколько ведущих московских театров: Пушкина, Малый, Маяковку… Но все мечты разбились об анкетные данные. Я честно писала: «Отец — бывший белогвардеец, бабушка — полька…» Такие документы мне возвращали из отдела кадров, и худруки, которые меня приглашали, ничего не могли сделать. Счастье быстро сменилось отчаянием. Я даже хотела свести счеты с жизнью. Спасла мама: будто что-то почувствовав, пришла ко мне в комнату в ту роковую ночь. Потом я устроилась домработницей. На досуге позвонила во Второй армейский театр — был и такой. И художественный руководитель Виктор Громов — актёр второго МХАТа — меня принял и отстоял. Он меня обожал — давал главные роли. А потом меня пригласила Мария Осиповна Кнебель в свой театр Центрального дома культуры железнодорожников. Великий педагог и режиссёр, она организовала замечательный театр.
Репертуар был прекрасный, и ролями своими я гордилась. У труппы имелся собственный вагон, в котором мы переезжали из города в город. На гастролях жили в этом вагоне. Поехали мы на гастроли в Вильнюс. Обычно никого из чужих в нашем поезде не было. Но в тот раз на обратном пути что-то сломалось, и наш вагон прицепили к другому составу. К нам зачастил молодой человек. Всё хвастался, какой он артист. Оказалось, что Анатолий Свенцицкий когда-то работал в Малом театре в Москве, был любимцем режиссеров Зубова и Царёва, но ушёл, когда у него обострился тромбофлебит. Несколько лет он был ведущим артистом в театре Вильнюса, но теперь возвращался в Москву, где у него остались родители. Так мы и познакомились. Во время остановки в Смоленске вышли из поезда. Темнота, фонарей почти нет. Я тогда сказала: «Господи, кто же тут живёт? Надеюсь, я никогда не буду в провинции работать». А в Москве я стала получать от Толи письма. Однажды он написал: «Уехал работать в Смоленск. Приезжайте к нам, у нас нет героини…» Я всё бросила и уехала к нему. За один сезон сыграла 12 главных ролей. Все центральные женские роли играла я, а мужские — Толя. Но всё же мне хотелось в стационарный театр в Москву. И я решила: уеду. Никто в это не верил, а Свенцицкий особенно. Был у нас спектакль «Голос Америки», у меня — главная роль. Третий звонок, а актрисы в грим-уборной нет. Просто я уехала в Москву, оставив записку: «Толик, милый, прости…» Мы тогда ещё не были близки, хотя все считали, что мы в супружеских отношениях. Расписались мы только в 70-х. Ради меня Анатолий бросил Смоленск. Конечно, был грандиозный скандал: два ведущих артиста уволились. В Москве он переехал ко мне в шестиметровую комнатку в коммуналке.
— Откуда Вы со временем перебрались в легендарную сталинскую высотку на Котельнической набережной и уже много лет там живёте. Вашими соседками были Клара Лучко, Лидия Смирнова, Галина Уланова, Людмила Зыкина, Марина Ладынина. С кем из них Вы общались?
— С Людмилой Зыкиной на Котельнической мы практически не виделись. Зато нередко встречались за кулисами на гастролях. С Галиной Улановой мы сталкивались то в подъезде, то в парикмахерской. Но она была неразговорчивая, с ней просто так не поболтаешь, на лавочке она сидеть не стала бы. А в доме была традиция: пожилые артисты в хорошую погоду собирались на лавочках возле центрального подъезда. Там и Раневская нередко прогуливалась.
Садик у нас есть при доме, мы там и в шахматы играли, и чай пили. Все интересовались друг другом. Я, когда готовила новую программу, обязательно апробировала её на соседях. Собирала местный «худсовет» — Ладынину, Смирнову, Мансурову (она, правда, в нашем доме не жила) — и читала им стихи. Ну а они, в свою очередь, советовались со мной по творческим вопросам. Особенно если дело касалось поэзии. Я живу на 12-м этаже. Лидия Смирнова жила надо мной, а Марина Ладынина — на втором или третьем. Она без конца по поводу и без ходила к нам с Толей в гости. Ей очень нравилось расположение нашей квартиры, и она уговаривала нас поменяться. Но мы, конечно, не согласились. У нас небо за окном — окна на три стороны. Кстати, в нашу высотку Ладынина переехала после расставания с Пырьевым, следовательно, в кино уже не снималась. Выручали творческие вечера, на которых она общалась со зрителями, пела. Потом Ладынина решила сделать программу по Ахматовой. Загорелась этим, наблюдая наши с Толей репетиции. И мой муж помог ей всё подготовить.
Больше всех на свете я люблю моего Толю. Для меня это самый главный человек в жизни, я и сейчас с ним часто разговариваю. Только теперь — мысленно. Он был истинным аристократом, очень образованным человеком — увлёк меня поэзией, научил видеть литературу. Толя меня приучил: чтобы не выпасть из профессии, нужно всё время готовить новые программы, чем я до сих пор и занимаюсь. И по сей день учусь — даже у телевизора, глядя на хороших артистов.
— Ирина Васильевна, все Ваши мучения и труды не прошли даром — Вы стали ведущей артисткой Москонцерта, признанным мастером художественного слова. Работали и работаете на главных площадках России и за рубежом, создали около 30 моноспектаклей. Публика Вас любит — одна на сцене Вы держите внимание зала на протяжении трёх часов! В советские годы Вам одной из немногих разрешали читать поэтов Серебряного века, в том числе опальную Анну Ахматову, шестидесятников— Вознесенского, Евтушенко…
— Да, когда читала шестидесятников, билеты на эти концерты достать было невозможно. В своё время мы с Толей подготовили программу по Ахматовой «Исповедь сердца», но руководство Москонцерта её, конечно, не утвердило. Тогда мы пошли в Министерство культуры и представили программу там. Члены комиссии утвердили её единогласно! Это была наша любимая с Толей постановка. Сегодня посмотреть и послушать её можно на моем сайте. Шло время, менялись приоритеты и линия партии. В соответствии с этим практически ежегодно я готовила новые моноспектакли.
Большая дружба связывала меня с советским поэтом Николаем Тихоновым — ему очень нравилась моя программа на его стихи. Было время, когда стали уделять особое внимание культуре регионов. Я подготовила несколько программ по творчеству поэтов Кабардино-Балкарии и Калмыкии — в какой-то степени открыла этих авторов широкому зрителю. Один из моноспектаклей мы назвали «Сердце гор» — несколько раз поднимались с мужем на Эльбрус и влюбились в эти места.
Благодаря Москонцерту я имею возможность выходить на сцену. У меня и 27 марта встреча со зрителями, и 7 апреля юбилейный вечер в Кремлёвском дворце. Очень рада, что в моей жизни больше десяти лет назад появились друзья в лице волонтёров и учредителей благотворительного фонда «Артист» (эта организация поддерживает артистов, режиссёров, гримёров и других деятелей искусства старшего поколения). Я охотно участвую в проектах фонда. Обожаю его учредителей: Женю Миронова, Машу Миронову, Игоря Верника. Кстати, Игорь будет вести мой юбилей в Кремле.
— Вы сами себе не удивляетесь? В сто лет оставаться в такой прекрасной физической и творческой форме! Чем Вы это объясняете?
— Я ем сколько хочу, но почему-то не толстею. Правда, утром делаю зарядку, но больше ничего. Неуспокоенность и жажда творчества —вот мой секрет.
Павел СОСЕДОВ
«Семейная православная газета», Март, 11, 2023

Заслуженной артистке России Ирине Васильевне Костровой исполняется 100 лет.
Дух захватывает от мысли, что на свою жизнь, на жизнь страны она смотрит — с высоты века.
— Родилась ещё при Ленине, — говорит. — В юности пережила войну, и снова — война.
Ирина Васильевна читает:
«Ведь ты же девочка», —
Твердили дома,
Когда сказала я в лихом году,
Что, отвечая на призыв райкома,
На фронт солдатом рядовым иду.
С семьёй
Меня Отчизна рассудила —
Скажи мне, память,
Разве не вчера
Я в дымный край окопов уходила
С мальчишками из нашего двора?
В то горькое,
В то памятное лето
Никто про слабость
Не твердил мою…
Спасибо, Родина,
За счастье это —
Быть равной
Сыновьям твоим в бою!
Эти стихи — не только о поэте Юлии Друниной, но и о человеке-легенде — Ирине Костровой.
Дух захватывает от мысли, что на свою жизнь, на жизнь страны она смотрит — с высоты века.
— Родилась ещё при Ленине, — говорит. — В юности пережила войну, и снова — война.
Ирина Васильевна читает:
«Ведь ты же девочка», —
Твердили дома,
Когда сказала я в лихом году,
Что, отвечая на призыв райкома,
На фронт солдатом рядовым иду.
С семьёй
Меня Отчизна рассудила —
Скажи мне, память,
Разве не вчера
Я в дымный край окопов уходила
С мальчишками из нашего двора?
В то горькое,
В то памятное лето
Никто про слабость
Не твердил мою…
Спасибо, Родина,
За счастье это —
Быть равной
Сыновьям твоим в бою!
Эти стихи — не только о поэте Юлии Друниной, но и о человеке-легенде — Ирине Костровой.
ВПЕРЕДИ ЖИЗНЬ
Уже в пять лет Ирина знала и всем говорила:
— Я буду артисткой.
Из сундуков доставала старинные бабушкины платья, наряжалась, устраивала представления. В самодеятельных спектаклях выступала.
Школу она окончила в 1941 году. 21 июня у неё был выпускной вечер. Ирина танцевала с одноклассниками на Красной площади. Это было прекрасно: впереди жизнь! Конечно, счастливая.
А утром — война. Девушка сразу пошла в военкомат.
— Мы все были Зоями Космодемьянскими, — вспоминает она теперь. — Я рвалась на фронт.
Но её, конечно, не взяли — по возрасту. Чем только Ирина не занималась! Рыла окопы, ездила на лесозаготовки, отливала батареи на заводе, дежурила на чердаке дома и тушила зажигательные бомбы.
Девушку направили на курсы медицинских сестёр. Это было серьёзное испытание. В подвале училища студенты препарировали вшивые трупы. Вонь стояла невыносимая! Ей тогда посоветовали начать курить. Она послушалась. И потом не смогла бросить.
— Когда была война, я думала: «А зачем вообще нужны продукты? Хлеб есть — и достаточно», — говорит Ирина Васильевна. — Мы ходили в штопаных чулках, но были такими романтиками! Мечтали найти место в жизни и совершенно не мечтали о деньгах. Были счастливы, умели дружить, помогали друг другу, верили. В этом смысле военное время — хорошее.
«МОЖЕТ, КТО-НИБУДЬ НЕ ПРИДЁТ?»
— В войну в Москве оставалось одно театральное училище, — рассказывает Ирина Васильевна. — И я туда пришла — с длинной косой, во фланелевых туфельках. А мне говорят: «Всё, уже записано 600 человек!» Я умоляла: «Запишите! Может, кто-нибудь умрёт? Кто-нибудь не придёт?» Ни за что не соглашались! Но я так пристала…
Через три дня она сдавала экзамен. Кто-то всё-таки не пришёл, Ирину вызвали на прослушивание.
— Я читала, читала, читала, — смеётся Ирина Васильевна. — Мне говорят: «Хватит!» Думаю: «Но они же не сказали, что я принята!» И дальше читаю. А какой-то человек с лысинкой слушал меня очень внимательно. Потом оказалось, что это народный артист РСФСР Владимир Васильевич Готовцев. Я была его любимой ученицей. Меня одну только приняли с первого тура.
В училище было три дипломных спектакля. Ирине Костровой там доверили главные роли. Её приглашали во многие театры.
— Но нигде не взяли. Я заполняла анкету, выяснялось, что папа был белым офицером — и на этом всё заканчивалось.
Ирина решила, что бездарна. Попыталась покончить жизнь самоубийством. Но мама что-то почувствовала: в четыре часа ночи пришла в комнату к дочери. Освободила из петли.
Работа всё-таки нашлась. Не бывает безвыходных ситуаций. Ирину Васильевну приняла в Железнодорожный театр Мария Осиповна Кнебель — великолепный режиссёр, педагог, человек.
ВСТРЕЧА
Поезд шёл из Вильнюса в Москву. Стучали колеса, качались вагоны. За окном плыла ночь. В купе сидели двое. Они встретились впервые — и тогда ещё не знали, что навсегда. Его звали Анатолий Свенцицкий, её — Ирина Кострова. Он читал и читал ей стихи. Рассказывал, что играл главные роли в Вильнюсском театре, а теперь возвращается домой. Она долго слушала молча. Потом сказала:
— А вы не очень-то хвастайтесь! Я тоже артистка. Еду с гастролей…
У неё было полно поклонников. Ему пришлось долго, настойчиво завоёвывать сердце Ирины. Наконец, она согласилась стать его женой. Он ликовал. А художественный руководитель Малого театра, где работал Анатолий, пришёл в ужас:
— Смотри не вздумай расписываться!
Был 1947 год. За женитьбу на дочери дворянина, русского офицера, награжденного двумя Георгиевскими и Александровским крестами, можно было попасть в тюрьму.
Молодые обвенчались на Ордынке в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
— Для нас это было необыкновенно, — вспоминает Ирина Васильевна. — Анатолий Борисович — большое счастье моей жизни. Рядом со мной был интересный, образованный человек — артист, историк. Сколько он сделал для меня! А вот числа-то, когда было венчание, я и не помню…
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Со Свенцицким у них выстроились не только семейные, но и творческие планы. Анатолий Борисович работал в Малом театре. Художественный руководитель театра хотел, чтобы Ирина тоже пришла туда: уж очень красива и талантлива была артистическая пара. Но её анкетные данные не позволяли.
— Только после смерти Сталина меня приняли в театр Ленинского комсомола, — вспоминает Ирина Васильевна.
А у Анатолия Борисовича тоже случился кризис в карьере. Однажды на сцене он опустился на колени — и не смог встать. Так проявилась болезнь ног. Ему пришлось уйти из театра.
Свенцицкий не растерялся. Не потерялся. Стал работать в «Москонцерте».
— Там была независимость, — рассказывает Ирина Васильевна. — Анатолий Борисович брал стихи и прозу, которые ему нравились, приглашал режиссёра и делал концертную программу. Один держал внимание зала не меньше двух часов. Это в сто раз труднее, чем играть главные роли в театре.
Она пошла в «Москонцерт» за мужем. Анатолий Борисович поддерживал её. Сам ставил программы для Ирины Васильевны и посмеивался:
— Хорошо устроилась!
Свенцицкий и Кострова выступали на лучших сценах страны. Иногда — вместе. Они любили гастроли. Читали свои программы в филармониях, на шахтах, заводах. Как-то Ирина Васильевна приехала в дальнюю даль, а ей сказали:
— Мы ваши концерты не запланировали. Может, выступите перед заключёнными — в колонии строгого режима?
Она согласилась. Высокое слово обращено ко всем людям. Нам не дано предугадать, как оно отзовётся, чью душу разбудит.
Как-то Анатолий Борисович предложил:
— Давай поедем в горы!
И они отправились в Кабардино-Балкарию. Восходили на Эльбрус. На вершине читали стихи.
— Там акустика необыкновенная, — восхищается Ирина Васильевна.
И красота. Весь мир — внизу. В лунном свете сияют снежные вершины. А вверху — небо с такими яркими и крупными звёздами, какие видны только в горах.
На вершине Эльбруса артисты вдохновились и придумали для Ирины Костровой новую программу — «Сердце гор». По стихам Пушкина, Грибоедова, Лермонтова.
— Вас волновало, как муж себя ведёт, когда вы разъезжались в разные стороны на гастроли? — спрашиваю Ирину Васильевну.
— Что ж такого? — удивляется она. — Мы друг другу верили и никогда не обманывали. Всё было хорошо, хотя он работал — с пианисткой, я — с пианистом.
НАША ИРА И НЕ ЕЛА, И НЕ ПИЛА
В 1970-х годах Анатолий Борисович Свенцицкий и Ирина Васильевна Кострова наконец зарегистрировали свой брак. Поверили в безопасность этого шага.
— Почему вы не взяли его фамилию? — интересуюсь. — Всё-таки она знаменитая.
— И моя знаменитая. У меня бабушка была художницей, выставлялась в Третьяковской галерее.
Отец Ирины Васильевны работал конструктором, архитектором, инженером. Строил Волго-Донский канал, проектировал дома в Москве. Но отдельную квартиру так и не получил. Жили в коммуналке.
Зато супруг сделал ей роскошный подарок: нашёл вариант обмена, и они переехали в высотный дом на Котельнической набережной.
— Мы не покупали никакой мебели, — Ирина Васильевна обводит рукой комнату. — Тут у нас то, что осталось от родителей. Нам было некогда. И в буфете, и в туалете всё время думали о работе. Чтобы создать серьёзное произведение, надо изучить поэта, его жизнь. Артист выходит на сцену не себя показать, а поделиться с публикой мыслями. Если они появились, возникает полный контакт с залом. Ты всецело негодуешь, радуешься — и зритель вместе с тобой негодует и радуется.
У них был отрытый дом. Всегда много гостей — поклонников, друзей. Сколько шуток здесь звучало!
— Я готовлю программу, а Толюша пишет:
Наша Ира и не ела, и не пила,
Всё стихи зубрила.
Спотыкаться, забывать текст на сцене артисты не смели. Ирина Васильевна помнит и читает дорогие строки без запинки:
Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни,
И этот ветер — ветер вешний,
Морской свершивший перелёт.
И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.
«ИСПОВЕДЬ СЕРДЦА»
Эти стихи вошли в моноспектакль «Исповедь сердца» — по произведениям, письмам, воспоминаниям Анны Ахматовой и её современников. Премьера состоялась в 1984 году. Конечно, Ирина Васильевна тогда не предполагала, что ахматовская программа будет у неё самой любимой. Сердце встретилось и неразрывно соединилось со стихами поэта. Не с далёкого ли 1941 года это началось? Уже тогда Кострову поддерживали слова:
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Трудна, трагична, изломана жизнь Анны Ахматовой. Как трудна и трагична жизнь нашего народа, страны.
— Каждый может примерить на себя эти стихи, понять, Кому верить, за Кем идти, — говорит Ирина Васильевна. — Читая Ахматову, я тоже стала иной, не такой, как была прежде. У неё училась преодолевать тяжёлые испытания, что мне выпадали.
Больше всего поражает Ирину Васильевну внутренний свет ахматовских строк. «Всё расхищено, предано, продано» — и вдруг:
Вновь дыханьями веет вишнёвыми
Небывалый под городом лес.
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь июльских прозрачных небес.
И так близко подходит чудесное
К развалившимся старым домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.
— Живая совесть и честь — вот что было у Ахматовой и может присутствовать в любом человеке, — уверена Ирина Васильевна. — Нет лучшего примера для нас, когда в мире столько зла.
(Продолжение в следующем номере)
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
Уже в пять лет Ирина знала и всем говорила:
— Я буду артисткой.
Из сундуков доставала старинные бабушкины платья, наряжалась, устраивала представления. В самодеятельных спектаклях выступала.
Школу она окончила в 1941 году. 21 июня у неё был выпускной вечер. Ирина танцевала с одноклассниками на Красной площади. Это было прекрасно: впереди жизнь! Конечно, счастливая.
А утром — война. Девушка сразу пошла в военкомат.
— Мы все были Зоями Космодемьянскими, — вспоминает она теперь. — Я рвалась на фронт.
Но её, конечно, не взяли — по возрасту. Чем только Ирина не занималась! Рыла окопы, ездила на лесозаготовки, отливала батареи на заводе, дежурила на чердаке дома и тушила зажигательные бомбы.
Девушку направили на курсы медицинских сестёр. Это было серьёзное испытание. В подвале училища студенты препарировали вшивые трупы. Вонь стояла невыносимая! Ей тогда посоветовали начать курить. Она послушалась. И потом не смогла бросить.
— Когда была война, я думала: «А зачем вообще нужны продукты? Хлеб есть — и достаточно», — говорит Ирина Васильевна. — Мы ходили в штопаных чулках, но были такими романтиками! Мечтали найти место в жизни и совершенно не мечтали о деньгах. Были счастливы, умели дружить, помогали друг другу, верили. В этом смысле военное время — хорошее.
«МОЖЕТ, КТО-НИБУДЬ НЕ ПРИДЁТ?»
— В войну в Москве оставалось одно театральное училище, — рассказывает Ирина Васильевна. — И я туда пришла — с длинной косой, во фланелевых туфельках. А мне говорят: «Всё, уже записано 600 человек!» Я умоляла: «Запишите! Может, кто-нибудь умрёт? Кто-нибудь не придёт?» Ни за что не соглашались! Но я так пристала…
Через три дня она сдавала экзамен. Кто-то всё-таки не пришёл, Ирину вызвали на прослушивание.
— Я читала, читала, читала, — смеётся Ирина Васильевна. — Мне говорят: «Хватит!» Думаю: «Но они же не сказали, что я принята!» И дальше читаю. А какой-то человек с лысинкой слушал меня очень внимательно. Потом оказалось, что это народный артист РСФСР Владимир Васильевич Готовцев. Я была его любимой ученицей. Меня одну только приняли с первого тура.
В училище было три дипломных спектакля. Ирине Костровой там доверили главные роли. Её приглашали во многие театры.
— Но нигде не взяли. Я заполняла анкету, выяснялось, что папа был белым офицером — и на этом всё заканчивалось.
Ирина решила, что бездарна. Попыталась покончить жизнь самоубийством. Но мама что-то почувствовала: в четыре часа ночи пришла в комнату к дочери. Освободила из петли.
Работа всё-таки нашлась. Не бывает безвыходных ситуаций. Ирину Васильевну приняла в Железнодорожный театр Мария Осиповна Кнебель — великолепный режиссёр, педагог, человек.
ВСТРЕЧА
Поезд шёл из Вильнюса в Москву. Стучали колеса, качались вагоны. За окном плыла ночь. В купе сидели двое. Они встретились впервые — и тогда ещё не знали, что навсегда. Его звали Анатолий Свенцицкий, её — Ирина Кострова. Он читал и читал ей стихи. Рассказывал, что играл главные роли в Вильнюсском театре, а теперь возвращается домой. Она долго слушала молча. Потом сказала:
— А вы не очень-то хвастайтесь! Я тоже артистка. Еду с гастролей…
У неё было полно поклонников. Ему пришлось долго, настойчиво завоёвывать сердце Ирины. Наконец, она согласилась стать его женой. Он ликовал. А художественный руководитель Малого театра, где работал Анатолий, пришёл в ужас:
— Смотри не вздумай расписываться!
Был 1947 год. За женитьбу на дочери дворянина, русского офицера, награжденного двумя Георгиевскими и Александровским крестами, можно было попасть в тюрьму.
Молодые обвенчались на Ордынке в храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
— Для нас это было необыкновенно, — вспоминает Ирина Васильевна. — Анатолий Борисович — большое счастье моей жизни. Рядом со мной был интересный, образованный человек — артист, историк. Сколько он сделал для меня! А вот числа-то, когда было венчание, я и не помню…
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Со Свенцицким у них выстроились не только семейные, но и творческие планы. Анатолий Борисович работал в Малом театре. Художественный руководитель театра хотел, чтобы Ирина тоже пришла туда: уж очень красива и талантлива была артистическая пара. Но её анкетные данные не позволяли.
— Только после смерти Сталина меня приняли в театр Ленинского комсомола, — вспоминает Ирина Васильевна.
А у Анатолия Борисовича тоже случился кризис в карьере. Однажды на сцене он опустился на колени — и не смог встать. Так проявилась болезнь ног. Ему пришлось уйти из театра.
Свенцицкий не растерялся. Не потерялся. Стал работать в «Москонцерте».
— Там была независимость, — рассказывает Ирина Васильевна. — Анатолий Борисович брал стихи и прозу, которые ему нравились, приглашал режиссёра и делал концертную программу. Один держал внимание зала не меньше двух часов. Это в сто раз труднее, чем играть главные роли в театре.
Она пошла в «Москонцерт» за мужем. Анатолий Борисович поддерживал её. Сам ставил программы для Ирины Васильевны и посмеивался:
— Хорошо устроилась!
Свенцицкий и Кострова выступали на лучших сценах страны. Иногда — вместе. Они любили гастроли. Читали свои программы в филармониях, на шахтах, заводах. Как-то Ирина Васильевна приехала в дальнюю даль, а ей сказали:
— Мы ваши концерты не запланировали. Может, выступите перед заключёнными — в колонии строгого режима?
Она согласилась. Высокое слово обращено ко всем людям. Нам не дано предугадать, как оно отзовётся, чью душу разбудит.
Как-то Анатолий Борисович предложил:
— Давай поедем в горы!
И они отправились в Кабардино-Балкарию. Восходили на Эльбрус. На вершине читали стихи.
— Там акустика необыкновенная, — восхищается Ирина Васильевна.
И красота. Весь мир — внизу. В лунном свете сияют снежные вершины. А вверху — небо с такими яркими и крупными звёздами, какие видны только в горах.
На вершине Эльбруса артисты вдохновились и придумали для Ирины Костровой новую программу — «Сердце гор». По стихам Пушкина, Грибоедова, Лермонтова.
— Вас волновало, как муж себя ведёт, когда вы разъезжались в разные стороны на гастроли? — спрашиваю Ирину Васильевну.
— Что ж такого? — удивляется она. — Мы друг другу верили и никогда не обманывали. Всё было хорошо, хотя он работал — с пианисткой, я — с пианистом.
НАША ИРА И НЕ ЕЛА, И НЕ ПИЛА
В 1970-х годах Анатолий Борисович Свенцицкий и Ирина Васильевна Кострова наконец зарегистрировали свой брак. Поверили в безопасность этого шага.
— Почему вы не взяли его фамилию? — интересуюсь. — Всё-таки она знаменитая.
— И моя знаменитая. У меня бабушка была художницей, выставлялась в Третьяковской галерее.
Отец Ирины Васильевны работал конструктором, архитектором, инженером. Строил Волго-Донский канал, проектировал дома в Москве. Но отдельную квартиру так и не получил. Жили в коммуналке.
Зато супруг сделал ей роскошный подарок: нашёл вариант обмена, и они переехали в высотный дом на Котельнической набережной.
— Мы не покупали никакой мебели, — Ирина Васильевна обводит рукой комнату. — Тут у нас то, что осталось от родителей. Нам было некогда. И в буфете, и в туалете всё время думали о работе. Чтобы создать серьёзное произведение, надо изучить поэта, его жизнь. Артист выходит на сцену не себя показать, а поделиться с публикой мыслями. Если они появились, возникает полный контакт с залом. Ты всецело негодуешь, радуешься — и зритель вместе с тобой негодует и радуется.
У них был отрытый дом. Всегда много гостей — поклонников, друзей. Сколько шуток здесь звучало!
— Я готовлю программу, а Толюша пишет:
Наша Ира и не ела, и не пила,
Всё стихи зубрила.
Спотыкаться, забывать текст на сцене артисты не смели. Ирина Васильевна помнит и читает дорогие строки без запинки:
Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни,
И этот ветер — ветер вешний,
Морской свершивший перелёт.
И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.
«ИСПОВЕДЬ СЕРДЦА»
Эти стихи вошли в моноспектакль «Исповедь сердца» — по произведениям, письмам, воспоминаниям Анны Ахматовой и её современников. Премьера состоялась в 1984 году. Конечно, Ирина Васильевна тогда не предполагала, что ахматовская программа будет у неё самой любимой. Сердце встретилось и неразрывно соединилось со стихами поэта. Не с далёкого ли 1941 года это началось? Уже тогда Кострову поддерживали слова:
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Трудна, трагична, изломана жизнь Анны Ахматовой. Как трудна и трагична жизнь нашего народа, страны.
— Каждый может примерить на себя эти стихи, понять, Кому верить, за Кем идти, — говорит Ирина Васильевна. — Читая Ахматову, я тоже стала иной, не такой, как была прежде. У неё училась преодолевать тяжёлые испытания, что мне выпадали.
Больше всего поражает Ирину Васильевну внутренний свет ахматовских строк. «Всё расхищено, предано, продано» — и вдруг:
Вновь дыханьями веет вишнёвыми
Небывалый под городом лес.
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь июльских прозрачных небес.
И так близко подходит чудесное
К развалившимся старым домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.
— Живая совесть и честь — вот что было у Ахматовой и может присутствовать в любом человеке, — уверена Ирина Васильевна. — Нет лучшего примера для нас, когда в мире столько зла.
(Продолжение в следующем номере)
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
2020

Мы продолжаем публиковать отрывки из новой книги Наталии Голдовской «А поговорить?..», где рассказывается о встречах и открытиях на пути в вере (начало в № 7 за 2018 год).
ЗНАКОМСТВО ПО КНИГЕ
Увидела книгу воспоминаний Анатолия Борисовича Свенцицкого. Меня заинтересовала фамилия: у Пастернака в романе «Доктор Живаго» одна глава называется «Ёлка у Свентицких». Всего одна буква изменена. Значит, это была знаменитая рождественская ёлка.
Прочитала книжку. Свенцицкий родился в 1921 году в верующей семье — и никогда не терял веры. В его воспоминаниях — целая эпоха. Связь времён. Конечно, мне захотелось пообщаться с автором. И я почти не удивилась, когда на каком-то ближайшем мероприятии мне указали на высокого седого человека:
— Вы его знаете? Это Свенцицкий.
Оставалось только подойти к нему и договориться об интервью. Анатолий Борисович откликнулся охотно. Сказал неожиданно весело:
— Но только я ложусь в больницу! Приезжайте ко мне туда.
ЗНАКОМСТВО ПО КНИГЕ
Увидела книгу воспоминаний Анатолия Борисовича Свенцицкого. Меня заинтересовала фамилия: у Пастернака в романе «Доктор Живаго» одна глава называется «Ёлка у Свентицких». Всего одна буква изменена. Значит, это была знаменитая рождественская ёлка.
Прочитала книжку. Свенцицкий родился в 1921 году в верующей семье — и никогда не терял веры. В его воспоминаниях — целая эпоха. Связь времён. Конечно, мне захотелось пообщаться с автором. И я почти не удивилась, когда на каком-то ближайшем мероприятии мне указали на высокого седого человека:
— Вы его знаете? Это Свенцицкий.
Оставалось только подойти к нему и договориться об интервью. Анатолий Борисович откликнулся охотно. Сказал неожиданно весело:
— Но только я ложусь в больницу! Приезжайте ко мне туда.
Через пару дней я стояла в больничном вестибюле. И вдруг увидела своего соседа по даче — молодого врача:
— Алёша, здравствуйте!
Он смотрел на меня настороженно:
— Вообще-то меня действительно зовут Алексей. А вы кто?
Вот это да! Называю своё имя. Пароли. Явки. Не узнаёт! Неужели мы так меняемся на природе?
— Ну хоть помогите мне найти Свенцицкого, — прошу безнадёжно. — Я к нему.
И ведь помог! С Анатолием Борисовичем мы вышли в больничный садик и зашагали по дорожке. Диктофон я, конечно, включила.
«ВСЁ ТВОЁ СЧАСТЬЕ В МОСКВЕ…»
Маленький мальчик гулял с мамой по Арбату.
— Какой красивый храм! — сказала мама.
— Нет, — ответил трёхлетний малыш.— Вот красивый!
И указал на церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Внешне она напоминала костёл. И то ли сказались польские корни, то ли предчувствовал крошечный человек, что его жизнь будет связана с этим храмом. Пройдёт много лет, и заслуженный артист России Анатолий Борисович Свенцицкий станет тут старостой, будет почти десять лет бороться за возвращение здания Церкви.
В декабре 2001 года, в день памяти святителя Спиридона, там прошло первое Богослужение. А в конце апреля Анатолию Борисовичу исполнилось 80 лет. Но он как-то благополучно упустил из вида эту дату:
— Раньше больше праздновали именины! — объяснил мне. — Ну, может быть, осенью отметим…
Ему и правда — недосуг. Он выступает с сольными поэтическими концертами, пишет ещё одну книгу воспоминаний. В храме дел полно. Анатолия Борисовича приглашают на разные встречи. Ждут от него рассказов о том, как жили раньше верующие.
БЫЛОЕ
У него богатейшая родословная: графы, дворяне. Дед и отец — юристы, присяжные поверенные. Бабушка по отцовской линии тоже начинала в этой профессии.
— Но царь Николай II увидел её — и издал указ, запрещающий женщинам подобное служение, — смеётся Анатолий Борисович. — Уж очень красивой она была.
Революция 1917-го года лишила семью всех проблем с нажитым капиталом. Вместе со слугами сидели в одной комнате — в холоде и голоде. И тут к отцу зашёл знакомый большевик:
— Иди складом заведовать, комиссаром тебя сделаем.
— Да вы ж меня расстреляете!
— Ну, ты подумай!
Что тут было думать? Жить надо. И превратился юрист в начсклада. Первое время ходил молча, приглядывался. А у народа с перепугу сложилось мнение: уж больно строг! И, надо сказать, в складском деле Борис Павлович преуспел, как и в юриспруденции: стал профессором Плехановского института, написал немало научных трудов.
ВОСПИТАНИЕ
— Папа меня интересно воспитывал, — вспоминает Анатолий Борисович.— Я в детстве очень любил сыр. Он меня звал Вороной. И вот вечером положит мне на столик возле кроватки кусок сыру и говорит: «Толенька, ты на ночь не ешь, съешь утром. А если сейчас съешь, значит, ты не мальчик, а киска!»
И у ребёнка развивалась сила воли, которая ему потом в жизни очень помогала.
Однажды родители взяли Толю с собой в гости и строго-настрого приказали весь вечер вести себя тихо, есть, что подают. Посадили ребёнка за отдельный маленький столик, а сами за большим столом увлеклись ужином и разговорами. Стали собираться домой — и вдруг Толенька разрыдался во весь голос. О нём забыли. Он был голодный. Но всё вытерпел.
Когда ему было лет десять, ночью раздался звонок в дверь. Пришли арестовывать отца. Мальчик обхватил его ноги, кричал, просил оставить ему папу:
— Лучше маму заберите!
Она потом всю жизнь этому удивлялась. Анатолий Борисович — тоже. Но умел посмеяться над собой.
Крестил Толю дядя — протоиерей Валентин Свенцицкий. Это был человек выдающийся: прекрасный писатель — сначала светский, а после принятия сана — церковный.
Отец Валентин — духовное чадо преподобного Анатолия Оптинского (Потапова). Вероятно, племяннику дали его имя. Тогда в святцах значилось несколько Анатолиев: мученик, преподобный, патриарх.
— Дядя Валя выбрал мне в покровители патриарха Константинопольского,— смеётся Анатолий Борисович.— И вообще мне прочили архиерейское будущее. Но я сан не принял. Мне нравилось проповедовать. Разве тогда это было можно? А где-нибудь на кладбище служить я не хотел.
Вопрос, кем быть, по существу перед ним не стоял. Юристом? Но какие юристы в конце 1930-х годов? Оставалось одно — идти в актёры.
ЛЕКАРСТВО ОТ УНЫНИЯ
Анатолий Борисович поступил в театральное училище. Художественный руководитель Малого театра Константин Александрович Зубов очень любил талантливого студента и тоже интересно воспитывал.
— На втором курсе я как-то стою у окна, а он идёт по коридору: «Толь, что это у тебя такой грустный вид?» — «Настроение, Константин Александрович, грустно-лирическое». — «В 19 лет не может быть плохого настроения! Знаешь что? Вот тебе задание. Ты завтра утром на занятия не приходи, а к одиннадцати часам (только не опаздывай!) поедешь на Ваганьковское кладбище. И сразу — в храм. Сорок пять минут там находишься — и сразу на Ваганьковский рынок. Все свои ощущения мне потом доложишь!»
— Я, конечно, в одиннадцать приехал на кладбище, — вспоминает Анатолий Борисович. — Вошёл в храм. Там стоят семнадцать гробов. Плач, скрежет зубовный. Выходит всклокоченный обновленческий священник. Такие у них батюшки были, что, если вечерком в переулке встретишь, испугаешься. Я простоял отпевание. Потом выхожу — и сразу на рынок. А день был довольно пасмурный. Вдруг солнышко вышло. И мной овладела такая радость жизни! Я был готов каждую продавщицу лобызать.
На другой день художественный руководитель спросил:
— Ну как? Побывал?
— Побывал,— сказал Свенцицкий.
— Будет плохое настроение — повтори!
Но он не повторял. С тех пор с ним никогда не случалось приступов уныния.
ВОЙНА
В двадцать лет Свенцицкий ухаживал за красавицей полячкой. 21 июня ехал с ней в метро, и она сказала:
— Говорят, война будет…
— Что ты! — авторитетно возразил юноша.— У нас ведь договор с Германией!
А наутро папа ушёл в магазин — он сам закупал продукты для семьи. Возвращается:
— Что вы спите? Война!
Анатолий Борисович тоже считается её участником — как вольнонаёмный. Артистов «императорских» театров — Большого, Малого, МХАТа — в армию не призывали. Даже не «уплотняли»: они жили в своих многокомнатных квартирах с царских времён.
Вместе с фронтовым филиалом Малого театра Анатолий Борисович ездил выступать на фронт. Сначала — в Химки. Там уже лежали трупы. Потом — даже под Минск.
— Впечатление было страшное, — вспоминает он. — Конечно, одно дело — идти в бой на смерть, а работать во фронтовом филиале Малого театра — совсем другое. Но выступать перед ранеными очень тяжело. Особенно в челюстных госпиталях. Ты, полный сил, выходишь на сцену, а перед тобой сидят молодые люди без лиц, под марлевыми повязками!
ЖЕНИТЬБА
В 1947 году Анатолий Борисович женился на Ирине Васильевне Костровой. Тоже актрисе. Константин Александрович Зубов решил и её взять в Малый театр.
— Бесполезно! — заявил Свенцицкий.
— Почему?
— Анкетные данные! Отец считается белогвардейцем.
— Да, долго ты искал! — саркастически сказал Зубов.— И наконец нашё-о-ол! Только не расписывайтесь!
За брак с дочерью белогвардейского офицера можно было попасть в места весьма отдалённые. Они венчались, а зарегистрировались уже много лет спустя.
По натуре своей Анатолий Борисович — гастролёр, премьер. Он много ездил. Всю страну повидал. Переиграл самые интересные главные роли. В 1957 году у него появилось желание перейти в Александринский театр в Ленинграде.
— Я безумно хотел в Питер,— рассказывает. — Город мне нравился. Александринский театр — ещё помпезнее Малого. Я любил такое. Приехал туда. Вечером после спектакля вернулся к себе в гостиницу — и даже не успел заснуть. Вижу: кто-то волосами склоняется к моему лицу и рыдает. Мне кажется, что это Богородица. Говорит: «Всё твоё счастье — в Москве. Ты сюда переезжать не должен. По какой улице ты первый раз шёл?» — «По Владимирской». — «Там есть храм, сейчас осквернённый. Со временем откроется». И исчезла.
Утром Анатолий Борисович отправился в Никольский собор. Было 8 сентября — день Сретения Владимирской иконы Божией Матери. А он не знал, что эта икона — покровительница Москвы. И стоит она на аналое в центре храма. А хор поёт: «Днесь светло красуется славнейший град Москва…»
Пришёл Анатолий Борисович в театр, там говорят: надо подождать вакансии. И он вернулся домой — к счастью, которое его здесь ожидало.
СОЛИСТ
Как-то на сцене он опустился на колени — и не смог встать. Так проявила себя болезнь ног, которая осталась с ним на всю жизнь. Что было делать? Свенцицкий ушёл из Малого театра — в Москонцерт. Стал выступать с сольными поэтическими программами. И супругу за собой повёл.
Читать стихи он мог бесконечно. Его концерты никогда не бывали короче двух часов. И зрители не шушукались, не расходились. Слушали, затаив дыхание.
Однажды с друзьями и женой Анатолий Борисович был за городом. Гуляли по лесу. И вдруг ему стало плохо. Друзья уложили Свенцицкого на поваленное дерево, а сами кинулись в деревню вызывать «скорую помощь». Возвращаются. Анатолий Борисович лежит и читает стихи. Он уже забыл, что ему было плохо.
Как-то Свенцицкому делали операцию на ноге. Ирина Васильевна была в больнице, очень волновалась, молилась. Открылась дверь операционной. Медики со счастливыми лицами вывезли на каталке Анатолия Борисовича.
— Чему вы радуетесь? — удивилась Ирина Васильевна.
— Никогда у нас не было такой операции. Больной всё время читал стихи.
СТАРОСТА
Анатолию Борисовичу было лет семьдесят, когда он тяжело заболел воспалением лёгких. Надежд на выздоровление не было. А в детстве он видел патриарха Тихона. И вот в больнице является ему святой патриарх, говорит:
— Ты не умрёшь. Тебе ещё надо сделать главное дело твоей жизни.
К удивлению врачей, Свенцицкий пошёл на поправку. И вскоре стал заниматься этим главным делом — возвращением Церкви храма Успения Божией Матери на Могильцах. Здание почему-то числилось снесённым.
— Что-то тёмное делалось в нём в советские годы. Теперь это кажется сном: то ли было, то ли не было? — улыбается Анатолий Борисович.
Ему звонили, угрожали, что убьют. Ирина Васильевна боялась, плакала, вставала перед ним на колени:
— Толюша, оставь это дело!
Но он говорил:
— Как?! Я не восстановлю храм своего детства? Пусть убивают.
Наконец состоялось первое Богослужение. И Анатолию Борисовичу приснился священник отец Феодор, который был последним настоятелем прихода.
— Как я рад вас видеть здесь! — воскликнул во сне Свенцицкий.
— А я отсюда никогда не уходил, — прозвучало в ответ.
Удивительные слова! Они неразрывно связывают нас с вечностью и вечность — с нами.
Храм Успения Божией Матери на Могильцах — ровесник Пушкина: построен в 1799 году. Раннюю историю храма в прошлом веке написал отец Феодор. А новую — пишет Свенцицкий.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новые люди пришли сейчас в Церковь. Мы не знаем традиций. Всё начинаем сначала. И Анатолий Борисович рассказывает:
— Раньше в центральных московских храмах никого в платочках не было. Арбатские дамы ходили на богослужения в шляпках. А теперь не всякий настоятель в шляпке пустит.
И от души хохочет. Что делать? Бабушки, которые в советские годы сохранили для нас хоть какую-то традицию, пришли в основном из деревень. И принесли в Москву свои обычаи и одежды.
— И меня тут как-то за руку поймали, — улыбается Анатолий Борисович.— Привязалась тётка какая-то: не так крестишься! Пошёл к духовному отцу. Он говорит: «А ну, перекрестись!» Я перекрестился. «Правильно ты всё делаешь».
Ну, если уж Свенцицкому терпеть приходится!..
…Мы шагали и шагали по дорожкам больничного сада. Вдруг Анатолий Борисович остановился:
— У нас большая разница в возрасте, но я предлагаю вам дружбу.
Вот как Бог посылает людям друзей!
Осенью мы отметили юбилей Свенцицкого. Он устроил большой творческий вечер в Центральном доме работников искусств. Анатолий Борисович читал стихи. Трогательно и нежно подарила цветы супругу Ирина Васильевна Кострова.
В СЕМЬЕ СВЯЩЕННИКА — БАБУШКА «РЕВОЛЮЦИЯ»
Анатолий Борисович прекрасно помнил своего дядю протоиерея Валентина Свенцицкого. Отец Валентин учил племянника:
— Жить надо по правде и совести. А главное — стоять на своих убеждениях.
И добавлял, глядя на советскую действительность:
— Совесть у вас будет растяжимая…
В самом начале ХХ века он издавал журнал вместе с Валерием Брюсовым. Дружил с Андреем Белым. Много путешествовал, писал, печатался.
В 1917 году принял сан. Рукополагал отца Валентина митрополит Вениамин (Казанский), будущий священномученик. Происходило это в Петербурге, в Свято-Иоанновском монастыре. Возле мощей святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Дальше была служба военным священником в добровольческой армии. Когда армия покинула Россию, отец Валентин вернулся в Москву. Формального повода жить здесь у него не было. И 1 апреля 1921 года он поступил в Московский университет, который в своё время не окончил. В 40 лет — на первый курс факультета общественных наук.
Революция, гражданская война резко прошлись по судьбам людей. В одной семье были красные и белые, верующие и атеисты. И ничего, уживались.
Супруга отца Валентина — родом из Сухуми. Дочка священника.
— А маму её у нас звали бабушка Революция, — рассказывал Анатолий Борисович. — За помощь большевикам в Сухуми она была награждена орденом Красного Знамени. Ей дали хороший паёк, а муж-священник даже не имел продовольственных карточек.
Аресты и ссылки выпали на долю духовенства 20-х годов. Отца Валентина сослали в Среднюю Азию. Там он тяжело заболел. Требовалась операция. И родственники хлопотали за него.
Дошли до Смидовича, занимавшего очень высокий пост в коммунистической партии.
— Удивительно, но он разрешил привезти отца Валентина в Москву, — вспоминал Анатолий Борисович. — Тётя так этому обрадовалась, что спросила: «А может, вы позволите ему какое-то время пожить в Подмосковье, восстановить силы?» Тогда Смидович, глядя на неё стальными глазами, медленно разорвал разрешение. Это был смертный приговор.
Священник скончался 20 октября 1931 года в деревушке недалеко от Тайшета. По непонятным причинам его разрешили похоронить в Москве. Два месяца гроб с телом везли в столицу. Прибыл он шестого ноября, в связи с революционными праздниками родственникам выдан восьмого.
Когда гроб вскрыли, тело отца Валентина оказалось нетленным. Даже ногти на руках — розовые.
Книги священника стали издавать в 1990-х годах. Их читают и перечитывают. Ими вдохновляются. По ним учатся. Хранят благодарную память об авторе.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
— Алёша, здравствуйте!
Он смотрел на меня настороженно:
— Вообще-то меня действительно зовут Алексей. А вы кто?
Вот это да! Называю своё имя. Пароли. Явки. Не узнаёт! Неужели мы так меняемся на природе?
— Ну хоть помогите мне найти Свенцицкого, — прошу безнадёжно. — Я к нему.
И ведь помог! С Анатолием Борисовичем мы вышли в больничный садик и зашагали по дорожке. Диктофон я, конечно, включила.
«ВСЁ ТВОЁ СЧАСТЬЕ В МОСКВЕ…»
Маленький мальчик гулял с мамой по Арбату.
— Какой красивый храм! — сказала мама.
— Нет, — ответил трёхлетний малыш.— Вот красивый!
И указал на церковь Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах. Внешне она напоминала костёл. И то ли сказались польские корни, то ли предчувствовал крошечный человек, что его жизнь будет связана с этим храмом. Пройдёт много лет, и заслуженный артист России Анатолий Борисович Свенцицкий станет тут старостой, будет почти десять лет бороться за возвращение здания Церкви.
В декабре 2001 года, в день памяти святителя Спиридона, там прошло первое Богослужение. А в конце апреля Анатолию Борисовичу исполнилось 80 лет. Но он как-то благополучно упустил из вида эту дату:
— Раньше больше праздновали именины! — объяснил мне. — Ну, может быть, осенью отметим…
Ему и правда — недосуг. Он выступает с сольными поэтическими концертами, пишет ещё одну книгу воспоминаний. В храме дел полно. Анатолия Борисовича приглашают на разные встречи. Ждут от него рассказов о том, как жили раньше верующие.
БЫЛОЕ
У него богатейшая родословная: графы, дворяне. Дед и отец — юристы, присяжные поверенные. Бабушка по отцовской линии тоже начинала в этой профессии.
— Но царь Николай II увидел её — и издал указ, запрещающий женщинам подобное служение, — смеётся Анатолий Борисович. — Уж очень красивой она была.
Революция 1917-го года лишила семью всех проблем с нажитым капиталом. Вместе со слугами сидели в одной комнате — в холоде и голоде. И тут к отцу зашёл знакомый большевик:
— Иди складом заведовать, комиссаром тебя сделаем.
— Да вы ж меня расстреляете!
— Ну, ты подумай!
Что тут было думать? Жить надо. И превратился юрист в начсклада. Первое время ходил молча, приглядывался. А у народа с перепугу сложилось мнение: уж больно строг! И, надо сказать, в складском деле Борис Павлович преуспел, как и в юриспруденции: стал профессором Плехановского института, написал немало научных трудов.
ВОСПИТАНИЕ
— Папа меня интересно воспитывал, — вспоминает Анатолий Борисович.— Я в детстве очень любил сыр. Он меня звал Вороной. И вот вечером положит мне на столик возле кроватки кусок сыру и говорит: «Толенька, ты на ночь не ешь, съешь утром. А если сейчас съешь, значит, ты не мальчик, а киска!»
И у ребёнка развивалась сила воли, которая ему потом в жизни очень помогала.
Однажды родители взяли Толю с собой в гости и строго-настрого приказали весь вечер вести себя тихо, есть, что подают. Посадили ребёнка за отдельный маленький столик, а сами за большим столом увлеклись ужином и разговорами. Стали собираться домой — и вдруг Толенька разрыдался во весь голос. О нём забыли. Он был голодный. Но всё вытерпел.
Когда ему было лет десять, ночью раздался звонок в дверь. Пришли арестовывать отца. Мальчик обхватил его ноги, кричал, просил оставить ему папу:
— Лучше маму заберите!
Она потом всю жизнь этому удивлялась. Анатолий Борисович — тоже. Но умел посмеяться над собой.
Крестил Толю дядя — протоиерей Валентин Свенцицкий. Это был человек выдающийся: прекрасный писатель — сначала светский, а после принятия сана — церковный.
Отец Валентин — духовное чадо преподобного Анатолия Оптинского (Потапова). Вероятно, племяннику дали его имя. Тогда в святцах значилось несколько Анатолиев: мученик, преподобный, патриарх.
— Дядя Валя выбрал мне в покровители патриарха Константинопольского,— смеётся Анатолий Борисович.— И вообще мне прочили архиерейское будущее. Но я сан не принял. Мне нравилось проповедовать. Разве тогда это было можно? А где-нибудь на кладбище служить я не хотел.
Вопрос, кем быть, по существу перед ним не стоял. Юристом? Но какие юристы в конце 1930-х годов? Оставалось одно — идти в актёры.
ЛЕКАРСТВО ОТ УНЫНИЯ
Анатолий Борисович поступил в театральное училище. Художественный руководитель Малого театра Константин Александрович Зубов очень любил талантливого студента и тоже интересно воспитывал.
— На втором курсе я как-то стою у окна, а он идёт по коридору: «Толь, что это у тебя такой грустный вид?» — «Настроение, Константин Александрович, грустно-лирическое». — «В 19 лет не может быть плохого настроения! Знаешь что? Вот тебе задание. Ты завтра утром на занятия не приходи, а к одиннадцати часам (только не опаздывай!) поедешь на Ваганьковское кладбище. И сразу — в храм. Сорок пять минут там находишься — и сразу на Ваганьковский рынок. Все свои ощущения мне потом доложишь!»
— Я, конечно, в одиннадцать приехал на кладбище, — вспоминает Анатолий Борисович. — Вошёл в храм. Там стоят семнадцать гробов. Плач, скрежет зубовный. Выходит всклокоченный обновленческий священник. Такие у них батюшки были, что, если вечерком в переулке встретишь, испугаешься. Я простоял отпевание. Потом выхожу — и сразу на рынок. А день был довольно пасмурный. Вдруг солнышко вышло. И мной овладела такая радость жизни! Я был готов каждую продавщицу лобызать.
На другой день художественный руководитель спросил:
— Ну как? Побывал?
— Побывал,— сказал Свенцицкий.
— Будет плохое настроение — повтори!
Но он не повторял. С тех пор с ним никогда не случалось приступов уныния.
ВОЙНА
В двадцать лет Свенцицкий ухаживал за красавицей полячкой. 21 июня ехал с ней в метро, и она сказала:
— Говорят, война будет…
— Что ты! — авторитетно возразил юноша.— У нас ведь договор с Германией!
А наутро папа ушёл в магазин — он сам закупал продукты для семьи. Возвращается:
— Что вы спите? Война!
Анатолий Борисович тоже считается её участником — как вольнонаёмный. Артистов «императорских» театров — Большого, Малого, МХАТа — в армию не призывали. Даже не «уплотняли»: они жили в своих многокомнатных квартирах с царских времён.
Вместе с фронтовым филиалом Малого театра Анатолий Борисович ездил выступать на фронт. Сначала — в Химки. Там уже лежали трупы. Потом — даже под Минск.
— Впечатление было страшное, — вспоминает он. — Конечно, одно дело — идти в бой на смерть, а работать во фронтовом филиале Малого театра — совсем другое. Но выступать перед ранеными очень тяжело. Особенно в челюстных госпиталях. Ты, полный сил, выходишь на сцену, а перед тобой сидят молодые люди без лиц, под марлевыми повязками!
ЖЕНИТЬБА
В 1947 году Анатолий Борисович женился на Ирине Васильевне Костровой. Тоже актрисе. Константин Александрович Зубов решил и её взять в Малый театр.
— Бесполезно! — заявил Свенцицкий.
— Почему?
— Анкетные данные! Отец считается белогвардейцем.
— Да, долго ты искал! — саркастически сказал Зубов.— И наконец нашё-о-ол! Только не расписывайтесь!
За брак с дочерью белогвардейского офицера можно было попасть в места весьма отдалённые. Они венчались, а зарегистрировались уже много лет спустя.
По натуре своей Анатолий Борисович — гастролёр, премьер. Он много ездил. Всю страну повидал. Переиграл самые интересные главные роли. В 1957 году у него появилось желание перейти в Александринский театр в Ленинграде.
— Я безумно хотел в Питер,— рассказывает. — Город мне нравился. Александринский театр — ещё помпезнее Малого. Я любил такое. Приехал туда. Вечером после спектакля вернулся к себе в гостиницу — и даже не успел заснуть. Вижу: кто-то волосами склоняется к моему лицу и рыдает. Мне кажется, что это Богородица. Говорит: «Всё твоё счастье — в Москве. Ты сюда переезжать не должен. По какой улице ты первый раз шёл?» — «По Владимирской». — «Там есть храм, сейчас осквернённый. Со временем откроется». И исчезла.
Утром Анатолий Борисович отправился в Никольский собор. Было 8 сентября — день Сретения Владимирской иконы Божией Матери. А он не знал, что эта икона — покровительница Москвы. И стоит она на аналое в центре храма. А хор поёт: «Днесь светло красуется славнейший град Москва…»
Пришёл Анатолий Борисович в театр, там говорят: надо подождать вакансии. И он вернулся домой — к счастью, которое его здесь ожидало.
СОЛИСТ
Как-то на сцене он опустился на колени — и не смог встать. Так проявила себя болезнь ног, которая осталась с ним на всю жизнь. Что было делать? Свенцицкий ушёл из Малого театра — в Москонцерт. Стал выступать с сольными поэтическими программами. И супругу за собой повёл.
Читать стихи он мог бесконечно. Его концерты никогда не бывали короче двух часов. И зрители не шушукались, не расходились. Слушали, затаив дыхание.
Однажды с друзьями и женой Анатолий Борисович был за городом. Гуляли по лесу. И вдруг ему стало плохо. Друзья уложили Свенцицкого на поваленное дерево, а сами кинулись в деревню вызывать «скорую помощь». Возвращаются. Анатолий Борисович лежит и читает стихи. Он уже забыл, что ему было плохо.
Как-то Свенцицкому делали операцию на ноге. Ирина Васильевна была в больнице, очень волновалась, молилась. Открылась дверь операционной. Медики со счастливыми лицами вывезли на каталке Анатолия Борисовича.
— Чему вы радуетесь? — удивилась Ирина Васильевна.
— Никогда у нас не было такой операции. Больной всё время читал стихи.
СТАРОСТА
Анатолию Борисовичу было лет семьдесят, когда он тяжело заболел воспалением лёгких. Надежд на выздоровление не было. А в детстве он видел патриарха Тихона. И вот в больнице является ему святой патриарх, говорит:
— Ты не умрёшь. Тебе ещё надо сделать главное дело твоей жизни.
К удивлению врачей, Свенцицкий пошёл на поправку. И вскоре стал заниматься этим главным делом — возвращением Церкви храма Успения Божией Матери на Могильцах. Здание почему-то числилось снесённым.
— Что-то тёмное делалось в нём в советские годы. Теперь это кажется сном: то ли было, то ли не было? — улыбается Анатолий Борисович.
Ему звонили, угрожали, что убьют. Ирина Васильевна боялась, плакала, вставала перед ним на колени:
— Толюша, оставь это дело!
Но он говорил:
— Как?! Я не восстановлю храм своего детства? Пусть убивают.
Наконец состоялось первое Богослужение. И Анатолию Борисовичу приснился священник отец Феодор, который был последним настоятелем прихода.
— Как я рад вас видеть здесь! — воскликнул во сне Свенцицкий.
— А я отсюда никогда не уходил, — прозвучало в ответ.
Удивительные слова! Они неразрывно связывают нас с вечностью и вечность — с нами.
Храм Успения Божией Матери на Могильцах — ровесник Пушкина: построен в 1799 году. Раннюю историю храма в прошлом веке написал отец Феодор. А новую — пишет Свенцицкий.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Новые люди пришли сейчас в Церковь. Мы не знаем традиций. Всё начинаем сначала. И Анатолий Борисович рассказывает:
— Раньше в центральных московских храмах никого в платочках не было. Арбатские дамы ходили на богослужения в шляпках. А теперь не всякий настоятель в шляпке пустит.
И от души хохочет. Что делать? Бабушки, которые в советские годы сохранили для нас хоть какую-то традицию, пришли в основном из деревень. И принесли в Москву свои обычаи и одежды.
— И меня тут как-то за руку поймали, — улыбается Анатолий Борисович.— Привязалась тётка какая-то: не так крестишься! Пошёл к духовному отцу. Он говорит: «А ну, перекрестись!» Я перекрестился. «Правильно ты всё делаешь».
Ну, если уж Свенцицкому терпеть приходится!..
…Мы шагали и шагали по дорожкам больничного сада. Вдруг Анатолий Борисович остановился:
— У нас большая разница в возрасте, но я предлагаю вам дружбу.
Вот как Бог посылает людям друзей!
Осенью мы отметили юбилей Свенцицкого. Он устроил большой творческий вечер в Центральном доме работников искусств. Анатолий Борисович читал стихи. Трогательно и нежно подарила цветы супругу Ирина Васильевна Кострова.
В СЕМЬЕ СВЯЩЕННИКА — БАБУШКА «РЕВОЛЮЦИЯ»
Анатолий Борисович прекрасно помнил своего дядю протоиерея Валентина Свенцицкого. Отец Валентин учил племянника:
— Жить надо по правде и совести. А главное — стоять на своих убеждениях.
И добавлял, глядя на советскую действительность:
— Совесть у вас будет растяжимая…
В самом начале ХХ века он издавал журнал вместе с Валерием Брюсовым. Дружил с Андреем Белым. Много путешествовал, писал, печатался.
В 1917 году принял сан. Рукополагал отца Валентина митрополит Вениамин (Казанский), будущий священномученик. Происходило это в Петербурге, в Свято-Иоанновском монастыре. Возле мощей святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Дальше была служба военным священником в добровольческой армии. Когда армия покинула Россию, отец Валентин вернулся в Москву. Формального повода жить здесь у него не было. И 1 апреля 1921 года он поступил в Московский университет, который в своё время не окончил. В 40 лет — на первый курс факультета общественных наук.
Революция, гражданская война резко прошлись по судьбам людей. В одной семье были красные и белые, верующие и атеисты. И ничего, уживались.
Супруга отца Валентина — родом из Сухуми. Дочка священника.
— А маму её у нас звали бабушка Революция, — рассказывал Анатолий Борисович. — За помощь большевикам в Сухуми она была награждена орденом Красного Знамени. Ей дали хороший паёк, а муж-священник даже не имел продовольственных карточек.
Аресты и ссылки выпали на долю духовенства 20-х годов. Отца Валентина сослали в Среднюю Азию. Там он тяжело заболел. Требовалась операция. И родственники хлопотали за него.
Дошли до Смидовича, занимавшего очень высокий пост в коммунистической партии.
— Удивительно, но он разрешил привезти отца Валентина в Москву, — вспоминал Анатолий Борисович. — Тётя так этому обрадовалась, что спросила: «А может, вы позволите ему какое-то время пожить в Подмосковье, восстановить силы?» Тогда Смидович, глядя на неё стальными глазами, медленно разорвал разрешение. Это был смертный приговор.
Священник скончался 20 октября 1931 года в деревушке недалеко от Тайшета. По непонятным причинам его разрешили похоронить в Москве. Два месяца гроб с телом везли в столицу. Прибыл он шестого ноября, в связи с революционными праздниками родственникам выдан восьмого.
Когда гроб вскрыли, тело отца Валентина оказалось нетленным. Даже ногти на руках — розовые.
Книги священника стали издавать в 1990-х годах. Их читают и перечитывают. Ими вдохновляются. По ним учатся. Хранят благодарную память об авторе.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ

Ирина Васильевна Кострова — заслуженная артистка России, ветеран войны и труда.
Как-то я позвонила ей в День Победы — поздравить. А в ответ она прочитала мне стихи Юлии Друниной:
Мы стояли у Москвы-реки,
Тёплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел —
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
— Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Миномёты били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот, лежим и мёрзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..
Как-то я позвонила ей в День Победы — поздравить. А в ответ она прочитала мне стихи Юлии Друниной:
Мы стояли у Москвы-реки,
Тёплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел —
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и улыбнулся мне:
— Ну, какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Понимаешь, просто не могу
Я тебя представить в сапогах!..
Я же вечер вспомнила другой:
Миномёты били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот, лежим и мёрзнем на снегу,
Будто и не жили в городах…
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках!..
СПАСИБО, РОДИНА!
Ирина Васильевна Кострова окончила школу в 1941 году.
— Двадцать первого июня у нас был замечательный выпускной, — вспоминала она. — Мы танцевали на Красной площади. А утром началась война.
У них был большой класс — сорок восемь человек. И все отправились в военкомат проситься на фронт. Ирину не взяли — из-за юного возраста. Но возраст не помешал ей рыть окопы, ездить на лесозаготовки. Она отморозила ноги, развилась гангрена.
После лечения девушку направили на курсы медицинских сестёр. Это было серьёзное испытание для неё. В подвале училища препарировали вшивые трупы. Вонь стояла страшная! Но она выдержала и это. Потом работала в госпитале.
— В войну я думала: «А зачем вообще нужны продукты? Хлеб есть — и достаточно». Мы ходили в штопаных чулках, но были романтиками. Мечтали найти место в жизни и совершенно не мечтали о деньгах. Умели дружить, помогали, верили друг другу.
И она снова читала стихи Юлии Друниной:
Ах, детство!
Мне, как водится, хотелось
Во всём с мальчишками
Быть наравне.
Но мама с папой
Не ценили смелость:
«Ведь ты же девочка! —
Твердили мне. —
Сломаешь голову,
На крыше сидя.
Бери вязанье
Да садись за стол».
И я слезала с крыши,
Ненавидя
Свой женский слабый,
Свой прекрасный пол.
Ах детство!
Попадало нам с тобою —
Попрёки матери, молчание отца…
Но опалил нам лица ветер боя,
Нам ветер фронта опалил сердца.
«Ведь ты же девочка», —
Твердили дома,
Когда сказала я в лихом году,
Что, отвечая на призыв райкома,
На фронт солдатом рядовым иду.
С семьёй
Меня Отчизна рассудила —
Скажи мне, память,
Разве не вчера
Я в дымный край окопов уходила
С мальчишками из нашего двора?
В то горькое,
В то памятное лето
Никто про слабость
Не твердил мою…
Спасибо, Родина,
За счастье это —
Быть равной
Сыновьям твоим в бою!
В АРТИСТКИ
— В войну в Москве все-таки оставалось одно театральное училище, — рассказывала Ирина Васильевна. — И в 1943 году я пошла туда поступать — с длинной косой, во фланелевых туфельках. А мне говорят: «Всё, вы опоздали! Уже записано 600 человек». Я умоляла: «Запишите меня! Может, кто-нибудь умрёт, кто-нибудь не придёт…» Ни за что не соглашались! Но я так пристала…
Через три дня она сдавала экзамен. Кто-то всё-таки не пришёл.
— И меня одну только приняли с первого тура.
Ирина Васильевна читает стихи Анны Ахматовой:
А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
Ведь всё равно вы с нами!..
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.
— А ведь это наш бессмертный полк, — замечает Ирина Васильевна.
Сорок восемь человек было в её классе. С войны вернулись только три мальчика. Три воина-победителя.
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
— Наше поколение — особое поколение, — уверена Кострова. — Мы терпели всё — холод, голод, тяжёлый труд. Главное для нас было — строить жизнь.
Это творческое созидание жизни, интерес к каждому дню всегда были в Ирине Васильевне и её муже — заслуженном артисте России Анатолии Борисовиче Свенцицком (Царство Небесное ему!).
Ирина Кострова подготовила новый поэтический моноспектакль «Судеб скрещенье». Помните у Пастернака: «судьбы скрещенье»? А тут — во множественном числе. Актриса через стихи посмотрела на жизнь известных поэтов: Каролины Павловой и Адама Мицкевича, Мирры Лохвицкой и Константина Бальмонта, Марины Цветаевой и Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и Александра Блока.
Премьера моноспектакля состоится в Московском городском доме учителя 26 февраля (ул. Пушечная, 4, стр. 2). За роялем будет молодой пианист Игорь Полтавцев.
Каждый разговор с Ириной Васильевной — это встреча с человеком богатой души. Она знает множество стихов — и всякий раз дарит их мне. Вот и теперь читает строки Максима Геттуева:
И рядом со мною
В сполохах розовых,
Навечно к груди прижав автомат,
На людных дорогах
В шинелях бронзовых
Солдаты бронзовые стоят.
Семьдесят пять лет назад окончилась война. На земле сменилось несколько поколений. Но прошлое с нами. Это наше достояние — и мы не хотим с ним расставаться. Оно настраивает нас на созидание.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ
Ирина Васильевна Кострова окончила школу в 1941 году.
— Двадцать первого июня у нас был замечательный выпускной, — вспоминала она. — Мы танцевали на Красной площади. А утром началась война.
У них был большой класс — сорок восемь человек. И все отправились в военкомат проситься на фронт. Ирину не взяли — из-за юного возраста. Но возраст не помешал ей рыть окопы, ездить на лесозаготовки. Она отморозила ноги, развилась гангрена.
После лечения девушку направили на курсы медицинских сестёр. Это было серьёзное испытание для неё. В подвале училища препарировали вшивые трупы. Вонь стояла страшная! Но она выдержала и это. Потом работала в госпитале.
— В войну я думала: «А зачем вообще нужны продукты? Хлеб есть — и достаточно». Мы ходили в штопаных чулках, но были романтиками. Мечтали найти место в жизни и совершенно не мечтали о деньгах. Умели дружить, помогали, верили друг другу.
И она снова читала стихи Юлии Друниной:
Ах, детство!
Мне, как водится, хотелось
Во всём с мальчишками
Быть наравне.
Но мама с папой
Не ценили смелость:
«Ведь ты же девочка! —
Твердили мне. —
Сломаешь голову,
На крыше сидя.
Бери вязанье
Да садись за стол».
И я слезала с крыши,
Ненавидя
Свой женский слабый,
Свой прекрасный пол.
Ах детство!
Попадало нам с тобою —
Попрёки матери, молчание отца…
Но опалил нам лица ветер боя,
Нам ветер фронта опалил сердца.
«Ведь ты же девочка», —
Твердили дома,
Когда сказала я в лихом году,
Что, отвечая на призыв райкома,
На фронт солдатом рядовым иду.
С семьёй
Меня Отчизна рассудила —
Скажи мне, память,
Разве не вчера
Я в дымный край окопов уходила
С мальчишками из нашего двора?
В то горькое,
В то памятное лето
Никто про слабость
Не твердил мою…
Спасибо, Родина,
За счастье это —
Быть равной
Сыновьям твоим в бою!
В АРТИСТКИ
— В войну в Москве все-таки оставалось одно театральное училище, — рассказывала Ирина Васильевна. — И в 1943 году я пошла туда поступать — с длинной косой, во фланелевых туфельках. А мне говорят: «Всё, вы опоздали! Уже записано 600 человек». Я умоляла: «Запишите меня! Может, кто-нибудь умрёт, кто-нибудь не придёт…» Ни за что не соглашались! Но я так пристала…
Через три дня она сдавала экзамен. Кто-то всё-таки не пришёл.
— И меня одну только приняли с первого тура.
Ирина Васильевна читает стихи Анны Ахматовой:
А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
Ведь всё равно вы с нами!..
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.
— А ведь это наш бессмертный полк, — замечает Ирина Васильевна.
Сорок восемь человек было в её классе. С войны вернулись только три мальчика. Три воина-победителя.
НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
— Наше поколение — особое поколение, — уверена Кострова. — Мы терпели всё — холод, голод, тяжёлый труд. Главное для нас было — строить жизнь.
Это творческое созидание жизни, интерес к каждому дню всегда были в Ирине Васильевне и её муже — заслуженном артисте России Анатолии Борисовиче Свенцицком (Царство Небесное ему!).
Ирина Кострова подготовила новый поэтический моноспектакль «Судеб скрещенье». Помните у Пастернака: «судьбы скрещенье»? А тут — во множественном числе. Актриса через стихи посмотрела на жизнь известных поэтов: Каролины Павловой и Адама Мицкевича, Мирры Лохвицкой и Константина Бальмонта, Марины Цветаевой и Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и Александра Блока.
Премьера моноспектакля состоится в Московском городском доме учителя 26 февраля (ул. Пушечная, 4, стр. 2). За роялем будет молодой пианист Игорь Полтавцев.
Каждый разговор с Ириной Васильевной — это встреча с человеком богатой души. Она знает множество стихов — и всякий раз дарит их мне. Вот и теперь читает строки Максима Геттуева:
И рядом со мною
В сполохах розовых,
Навечно к груди прижав автомат,
На людных дорогах
В шинелях бронзовых
Солдаты бронзовые стоят.
Семьдесят пять лет назад окончилась война. На земле сменилось несколько поколений. Но прошлое с нами. Это наше достояние — и мы не хотим с ним расставаться. Оно настраивает нас на созидание.
Наталия ГОЛДОВСКАЯ